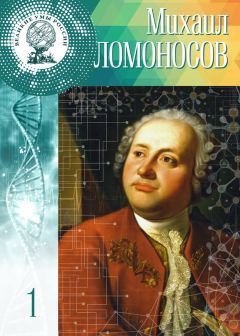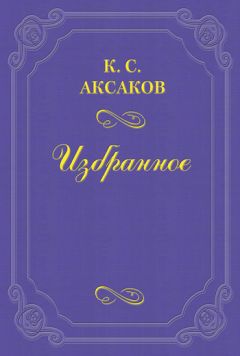Рудольф Баландин - Михаил Ломоносов
Предписывалось: «Студентам же, кроме одного талера в месяц, назначенного им на карманные деньги и разные мелочи, не выдавать никаких денег на руки, а между тем объявить везде по городу, чтобы никто им не верил в долг, ибо если это случится, то Академия наук за подобный долг никогда не заплатит ни одного гроша».
В таких суровых условиях учеба шла отлично. Ломоносов изучал минералогию и металлургию; четыре месяца переводил статьи и проводил химические опыты с солями для молодого графа Готлиба Фридриха Вильгельма Юнкера, члена Петербургской Академии, приехавшего в Германию для изучения соляных промыслов.
Тот год был отмечен первым значительным успехом Ломоносова как поэта. Он сочинил и послал в Петербург «Оду блаженные памяти Государыне Императрице Анне Иоанновне на победу над Турками и Татарами и на взятие Хотина 1739 года». Она — впервые на русском языке — написана ямбом.
К стихотворению он приложил «Письмо о правилах российского стихотворства», в котором рассказал, как начал писать стихи тоническим размером, и привел примеры своих опытов. Особо отметил: «Я не могу довольно о том нарадоваться, что российский наш язык не токмо бодростию и героическим звоном греческому, латинскому и немецкому не уступает, но и подобную оным, а себе купно природную и свойственную версификацию иметь может».
Готлиб Юнкер оплатил почтовые расходы. В академических кругах Петербурга сочинение Михаила Ломоносова и его мысли по теории поэзии произвели некоторое замешательство. Тредиаковский в пространном письме изложил свои возражения против новаторства молодого поэта (это послание не отправили в Фрейберг во избежание излишних почтовых расходов).
С этих пор имя поэта Ломоносова приобрело известность.
Отношения между Генкелем и Ломоносовым сравнительно быстро стали обостряться. Первой причиной было скудное содержание, которое получали русские студенты. Генкель убедил руководство Петербургской Академией наук, что они не могут обойтись стипендией в 200 рейхсталеров в год и получил прибавку — по 50 талеров на каждого. Однако на личные расходы он продолжал выплачивать им прежнюю незначительную сумму.
Была и другая причина, не менее веская: Генкель продолжал проводить с ними рутинные химические лабораторные занятия, постоянно откладывая обучение горному делу.
«Первый случай к моему поруганию, — писал Ломоносов секретарю и библиотекарю Петербургской Академии наук Иоганну Даниилу Шумахеру в ноябре 1740 года, — представился ему в лаборатории в присутствии господ товарищей. Он понуждал меня растирать сулему. Когда я отказался, ссылаясь на скверный и вредный запах, которого никто не может вынести, то он не только назвал меня ни на что не годным, но еще спросил, не хочу ли я лучше сделаться солдатом, и наконец с издевательскими словами выгнал меня вон.
С горем и досадой я вынужден был переварить подобный комплимент, да к тому еще попросить у этого господина прощения. Вскоре после того он без всякой причины прогнал меня из прежней моей квартиры в другую, которая была не дешевле и не лучше, а причина была следующая: хозяином был доктор медицины, с которым он по какому-то поводу поссорился; я же принужден был заплатить 2 рейхсталера за переноску вещей, да сверх того столько же дать хозяину, поскольку еще не истек срок, на который я нанял комнату. Этим он, однако, не удовольствовался, а искал случая задеть меня еще сильнее, в чем и успел. Ввиду того что все нужные нам припасы он брал у своего тестя, платя ему за них очень щедро, он в конце концов решил сберечь деньги и отделаться от нас в месяц 4 рейхсталерами, на которые нам совершенно невозможно было себя содержать. Поэтому я в лаборатории стал просить его о прибавке, но он отвечал, что, если бы нам даже пришлось просить милостыню, он все же ничего нам больше не даст».
По словам Генкеля, все началось с того, что Ломоносов наотрез отказался выполнять лабораторное задание. «Видя, что он, кажется, намерен отделаться от работы и уже давно желает разыгрывать из себя господина, — писал Генкель в рапорте Академии наук, — я решил воспользоваться этим удобным случаем, чтобы испытать его послушание, и стал настаивать на своем, объясняя ему, что он таким образом ничему не научится, да и здесь будет совершенно бесполезен: солдату необходимо понюхать пороху».
Генкеля раздражали знания ученика («желает разыгрывать из себя господина»), которого заставляли негодовать ученические штудии, тогда как у Христиана Вольфа, по его мнению, они это проходили с более квалифицированными объяснениями. Генкеля более всего выводили из себя самостоятельность, гордость, незаурядные знания и здравые рассуждения русского студента. По словам Ломоносова, «в то же время он презирал всю разумную философию, и когда я однажды, по его приказанию, начал излагать химические явления, то он тотчас же, ибо это было сделано не по его перипатетическому концепту, а на основе принципов механики и гидростатики, велел мне замолчать, и с обычным своим умничаньем поднял мои объяснения на смех, как пустую причуду». Михаилу было 28 лет; он был сложившимся мужчиной и в физическом, и в умственном отношении.
Научные основы химии тогда еще только формировались. Не было даже четкого разделения наук. Физику называли экспериментальной философией, химию причисляли к алхимии, медицине или говорили о единой «физико-химии»; вместо геологии было горное дело. А знаменитый английский философ Гоббс утверждал, что лабораторные опыты лишь затрудняют познание реальных природных процессов. (В таком суждении есть доля правды.)
У Генкеля и Ломоносова были разные представления о сути химических реакций. Преподавателя возмущало, что у его ученика было свое мнение на этот счет. В отличие от Генкеля, Ломоносов был сторонником идей ирландского ученого Роберта Бойля (1627–1691), который оборудовал в Оксфорде лабораторию, где проводил химические и физические опыты. Ассистентом у него был Роберт Гук. Благодаря ему Бойль прославился как автор закона Бойля — Мариотта: объем газа при постоянной температуре обратно пропорционален его давлению (произведение данной массы идеального газа на его давление постоянно при постоянной температуре).
Роберт Бойль стал основоположником экспериментальной химии, отделив ее от медицины и алхимии. «Химики, — писал он, — до сих пор руководствовались чересчур узкими принципами, не требующими особенно широкого умственного кругозора; они усматривали свою задачу в приготовлении лекарств, в извлечении и превращении металлов. Я смотрю на химию с совершенно другой точки зрения; я смотрю на нее не как врач, не как алхимик, а как должен смотреть на нее философ. Я начертал здесь план химической философии, который надеюсь выполнить и усовершенствовать своими опытами и наблюдениями. Если бы люди принимали успехи истинной науки ближе к сердцу, нежели свои личные интересы, тогда можно было бы доказать им, что они оказывали бы миру величайшие услуги, если бы посвятили все свои силы производству опытов, собиранию наблюдений и не устанавливали бы никаких теорий, не проверивши предварительно их справедливости путем опытным».