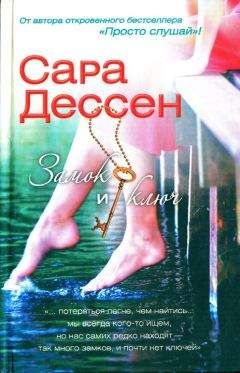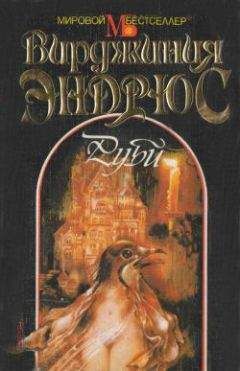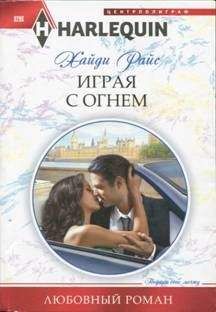Марлен Дитрих - Азбука моей жизни
В большом темном помещении все вокруг пили. От изумления я не могла вымолвить ни слова. «Вы сказали в интервью, что с удовольствием послушали бы Гарри Ричмана. Ну что ж, он здесь!» — сообщил Уолтер Вангер.
Гарри Ричман вышел на крошечный подиум и запел песню «Солнечная сторона улицы», которую я очень любила.
Я была растрогана до слез, увидев обожаемого мною исполнителя, и не успела еще прийти в себя, как Вангер потянул меня танцевать. В какой-то момент мне стало страшно, я сказала, что мне надо вернуться к столу. Когда он выпустил меня, я схватила свою сумочку и стремглав выбежала из «ресторана», который, как я теперь понимаю, был настоящим подпольным кабаком («speakeasy»).
Я бежала по чужому городу, по чужим улицам куда глаза глядят. На счастье, мне попалось такси. Как только я приехала в отель, тут же позвонила фон Штернбергу. Сначала он слушал меня, не говоря ни слова, затем произнес: «Выезжай первым ранним поездом, скажи портье, чтобы он заказал тебе места. Никому не говори об этом, слышишь? Сделай все, чтобы как можно скорее уехать из Нью-Йорка».
Я разбудила Рези, и мы стали укладывать вещи, которые только несколько часов назад распаковали. Обе не сомкнули глаз, пока не сели в поезд.
Поезд назывался «XX век» и шел в Чикаго. Там мы должны были пересесть на другой поезд, шедший на юг и называвшийся «Санта-Фе». Рези и я проспали весь день, и на следующий день мы снова много спали.
Фон Штернберг обещал встретить нас в Нью-Мехико. Мехико означало, конечно же, для нас столицу Мексики. Я ничего не знала о Нью-Мехико, хотя мои школьные познания были довольно серьезными.
Жара стояла невыносимая. Мы лежали в мокрых простынях, но и это не помогало. Поезд останавливался очень часто, мы делали попытки выйти из вагона, чтобы немного проветриться, но жара тут же загоняла нас обратно.
Наконец, когда мы уже почти потеряли надежду, на одной из станций появился фон Штернберг. Он был спокоен, сказал, что нам нечего волноваться, и пошел в свое купе. Ну, теперь все должно пойти хорошо. Он «взялся» за нас.
Поезд шел все дальше, наконец мы прибыли в Пасадену, городок, находившийся недалеко от Лос-Анджелеса. На вокзале нас ждала легковая машина и грузовик для багажа. В этом уединенном месте не видно было ни одного журналиста. Полная надежд, я чувствовала себя прекрасно и готова была передать все свои заботы фон Штернбергу.
Рези уже привыкла к новым зубам и ела за троих. Я от нее не отставала. Впрочем, у меня никогда не было желания сдерживать свой аппетит. Хотя в сравнении со всеми прекрасными, стройными королевами Голливуда я казалась себе ужасно толстой.
В первую очередь меня беспокоило мое лицо. Однако фон Штернберг считал, что я прекрасно выгляжу и вполне отвечаю его представлениям о красоте. Женщина, которую он хотел показать на экране, ни в коем случае не должна быть худой, а значит (для него), непривлекательной. Он хотел показать женщину в стиле Рубенса, крепкую, жизнеутверждающую, полную секса, — словом, женщину, о которой мечтали бы все нормальные мужчины. Итак, я осталась один на один со своими комплексами.
Все же я настояла на том, чтобы сниматься только в черных платьях. В первом своем американском фильме мне хотелось выглядеть стройнее.
Черный цвет очень труден для съемок. Но терпение фон Штернберга было неиссякаемо. Он говорил: «Ну хорошо, если ты хочешь носить черное, тогда, вопреки всем правилам, я буду снимать черное».
Только позднее я поняла, как это сложно. Тогда же я ни малейшего понятия не имела о тех трудностях, которые ему приходилось преодолевать.
Я носила только черное, матово-черное или даже черный бархат. Я пряталась за высокие спинки стульев, когда должна была произносить фразы, полные тоски, а он изо дня в день терпел все мои глупости.
Вне студии я носила брюки (только не джинсы), которые мне шили в одном мужском ателье в Лос-Анджелесе. Поскольку мы жили рядом с океаном и горами, я чувствовала себя в них гораздо удобнее, чем в юбке и чулках. Это породило разнообразные толки, о которых я поначалу и не догадывалась.
Фон Штернберг ссорился из-за меня с агентами «Парамаунта» по рекламе. Он делал все, что было в его силах, а я принимала это как должное. Поскольку я оказалась в чужой стране по его настоянию, то считала, что он обязан руководить мною и решать все вопросы. Конечно, ему было нелегко. Я была упряма да к тому же молода. Только теперь я понимаю, какое бесконечное терпение он проявлял. Работая с ним, я не знала никаких забот. Я получала точное расписание и утром, между половиной шестого и шестью, приходила на студию и готовилась к съемкам.
Мои светлые волосы выглядели на экране темными из-за их рыжеватого оттенка. Мне предлагали их высветлить, чтобы они казались на экране такими же светлыми, как и в жизни. Однако я отказывалась. Итак, в жизни я была блондинкой, а на экране — брюнеткой. Этой проблемой занялся специальный отдел студии. Стали пробовать различные варианты освещения — сверху, снизу, сбоку, но чаще всего контражур. При таком освещении вокруг головы появлялось некоторое подобие нимба. Как свидетельствуют фотографии той поры, такой тип освещения стал очень популярным. Но были здесь и свои минусы.
Поскольку источник света находился позади актера, ему нельзя было поворачивать голову, потому что свет мог попасть на кончик носа. Поэтому большинство сцен, которые снимались при таком освещении, выглядели натянуто и деревянно. Когда мы разговаривали, то смотрели только в одну точку, прямо, не глядя друг другу в глаза. Даже любовные сцены не были здесь исключением.
Благодаря свету, направленному сзади, мы со своими нимбами выглядели прекрасно, но оставались манекенами. Конечно, во всем обвиняли нас, актеров. Обо мне даже говорили, что «она никогда не пошевелится». Однажды я сделала попытку пошевелиться, тут же прибежал оператор и попросил меня не делать этого. Я подчинилась, поскольку с раннего детства приучилась относиться с вниманием к проблемам и трудностям других людей.
На площадку к фон Штернбергу приезжали студенты со всего мира. Они манипулировали осветительными приборами прямо у моего носа, пытаясь раскрыть тайну великого мастера. При съемке крупных планов свет является важнейшим элементом, он может либо прославить актера, либо уничтожить его.
Существует множество историй насчет того, как снимал меня фон Штернберг. Утверждают, что я вырвала коренные зубы, чтобы создать мистериозное лицо. Другие актрисы прилагали массу усилий, чтобы втянуть щеки и стать похожими на моих героинь. Разумеется, во всех этих историях нет и слова правды. Например, в «Голубом ангеле» нет никакого мистериозного лица. Поскольку свет прожекторов был удален от меня. Такое выражение появлялось лишь в том случае, когда свет падал на лицо сверху.