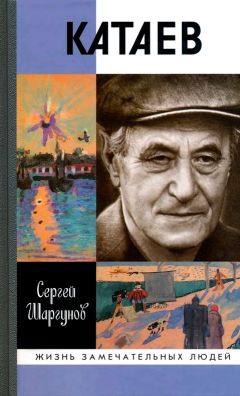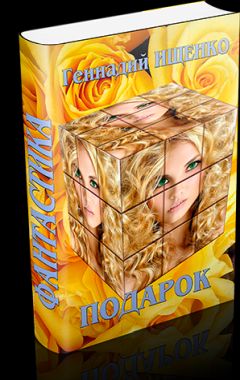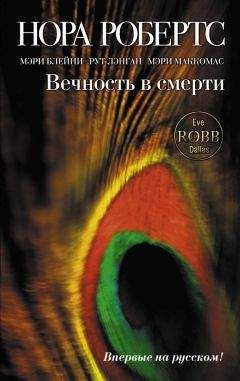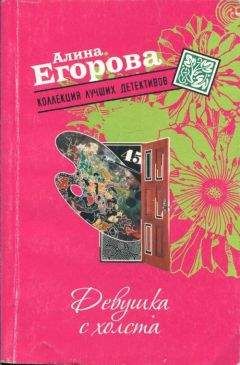Сергей Шаргунов - Катаев. Погоня за вечной весной
«Однажды и я попал в поле его дьявольского зрения. Он вдруг посмотрел на меня, нарисовал указательным пальцем в воздухе на уровне моей головы какие-то замысловатые знаки, затем сказал:
— Вера, обрати внимание: у него совершенно волчьи уши. И вообще, милсдарь, — обратился он ко мне строго, — в вас есть нечто весьма волчье.
…А у самого Бунина тоже были волчьи уши, что я заметил еще раньше!»
«Бунин так действовал на меня, что я и внешне стал похож на него: как он горбился» — слова, сказанные в конце жизни.
А вот запись Муромцевой вскоре после приезда в Одессу:
«Пришел Катаев. Я лежала на балконе в кресле. Ян вышел, поздоровался, пригласил Катаева сесть со словами: “Секретов нет, можем здесь говорить”. Катаев согласился. Они сели. Я лежала затылком к ним и слушала. После нескольких незначащих фраз Катаев спросил:
— Вы прочли мои рассказы?
— Да, я прочел только два, “А квадрат плюс Б квадрат” и “Земляк”, — сказал с улыбкой Ян, — так как подумал: зачем мне глаза ломать? Шрифт сбитый, да и то, что на машинке переписано, тоже трудно читать, и я понял из этих вещей, что у вас несомненный талант, — это я говорю очень редко и тем приятнее мне было увидеть настоящее. Боюсь только, как бы вы не разболтались… Много вы читаете?
— Нет, я читаю только избранный круг, только то, что нравится.
— Ну, это тоже нехорошо. Нужно читать больше, не только беллетристику, но и путешествия, исторические книги и по естественной истории. Возьмите Брэма, как он может обогатить словарь. Какое описание окрасок птиц! Вы и представить не можете.
— Да, это верно, — соглашается Катаев, — но, по правде сказать, мне скучно читать не беллетристические книги.
— Я понимаю, что скучно. Но это необходимо, нужно заставлять себя. А то ведь как бывает: прочтут классиков, а затем начинают читать современных писателей, друг друга, и этим заканчивается образование. Читайте заграничных писателей. Одолейте Гёте.
Я искоса посматриваю на Катаева, на его темное, немного угрюмое лицо, на его черные, густые волосы над крепким невысоким лбом, слушаю его отрывистую речь с небольшим южным акцентом. Он любит больше всего Толстого, о нем он говорит с восторгом, затем Чехова, Мопассана, Флобера, Додэ, но Толстой и Пушкин — выше всех, недосягаемы. Уже три года он пишет роман, но написал только девяносто пять страниц. Хочет дать прочесть Яну первую часть его» (13 июля 1918 года).
Следов этого романа не обнаружено, но судя по всему, он был о войне…
Изложенное Муромцевой совпадает с воспоминаниями Катаева: «Он говорил, что каждый настоящий поэт должен хорошо знать историю мировой цивилизации. Быт, нравы, природу разных стран, их религии, верования, народные песни, сказания, саги. В то время это меня — увы! — ни в малейшей степени не волновало, хотя я и сделал вид, что восхищен мудрым советом, и с ложным жаром стал записывать названия книг, которые он мне диктовал».
Кстати, в рассказе «А квадрат плюс Б квадрат», где герой романтически выгуливал некую Верочку, которая «похожа на девушку с английской открытки», пожалуй, впервые звучало то, что будет потом повторяться у Катаева — четкий фаталистический мотив, подозрение о собственной уже состоявшейся смерти, к которому он так легко переходил от пьянящего ощущения бессмертия: «А может быть, я и есть мертвец. Может быть, меня уже давно убили где-нибудь под Сморгонью или на Стоходе. Может быть, под Дорна-Второй».
В ноябре 1918 года в Одессе образовалась своя «Среда» — отчасти наследница московской «Среды», которая стала собираться в помещении Литературно-артистического общества, ныне Литературного музея. Это был узкий кружок, где кроме одесситов постоянно присутствовали Бунин, Толстой, его жена Наталья Крандиевская, Максимилиан Волошин, поэт Михаил Цетлин и немногие другие. Здесь читали рассказы, стихи, литературные доклады и их обсуждали. На «Средах» выступали отдельные «зеленоламповцы» — Катаев, Багрицкий, Леонид Гроссман.
Чем дальше продвигаешься сквозь дневники Бунина и Муромцевой (хотя они о многом и сообщали полунамеком, опасаясь изъятия тетрадей при обыске), тем понятнее: будь эти тексты обнародованы в иные годы, могли стоить Катаеву не только благополучия, но и жизни. Кстати, ясно, что некоторые дневниковые фразы по поводу Катаева Бунин сознательно не включил в «Окаянные дни», чтобы не подставлять «литературного крестника», оставшегося в советской России.
Пребывание австро-германских войск в Одессе не было безоблачным. Большевики организовали крушение поезда с австрийскими войсками; взорвали на станции Раздельная артиллерийские склады; на заводе Анатра сожгли 62 аэроплана. Наблюдения взрывов есть у Муромцевой: «Ян сказал, чтобы я записала. Сначала появляется огонь, иногда небольшой, иногда в виде огненного шара, иной раз разбрасывались золотые блестки, после этого дым поднимается клубом, иногда в виде цветной капусты, иногда в виде дерева с кроной пихты…»
В ноябре 1918 года в Германии грянула революция, австро-германские войска покинули Одессу. В середине декабря войска Директории Украинской Народной Республики «социалистов» Петлюры и Винниченко свергли Скоропадского. Петлюровцы приближались к Одессе со стороны Раздельной. Те, кого можно окрестить «буржуазной интеллигенцией», боялись их и ждали хаоса.
В том ноябре Муромцева записала: «Все надеются на англичан. Есть слух, что состоялось соглашение между ними и немцами не оставлять Одессы в анархическом состоянии». Другая запись: «Был Катаев. Собирает приветствия англичанам. Ему очень нравятся “Скифы” Блока. Ян с ним разговаривал очень любовно». А ведь «Скифы» были ненавистны Бунину, и все же был расположен…
Но любить стихотворение не всегда значит принимать его смысл.
Тогда же в «Южном огоньке» Катаев так рецензировал нового Блока:
«У меня сердце обливалось кровью, когда я первый раз читал “Двенадцать”. Я не мог, я не хотел верить, что тот Блок, который пел о “прекрасной даме в сияньи красных лампад” и “О всех погибших в чужом краю”, стал в угоду оголтелому московскому демосу петь похабные частушки:
Ванька с Катькой — в кабаке…
У ней керенки есть в чулке…
Мне стыдно и гадко цитировать еще эту поразительно безграмотную похабщину. Безграмотную даже с точки зрения тех, кто утверждает, что это, мол, все нужно для стиля, для формы, долженствующей строго отвечать содержанию. Для человека, мало-мальски знакомого с народом, с его песнями, конечно, видно, что народный стиль и не ночевал в этой убогой и грубо поддельно-народной поэме. Мне стыдно и гадко писать о том, что к сотне позорных, дубовых и пустых по смыслу стихов приплетен для чего-то Христос! Это я считаю полным паденьем, полной гражданской и литературной смертью и величайшим издевательством»[11].