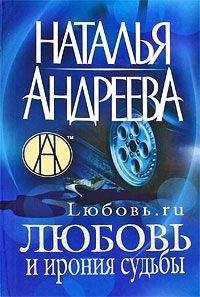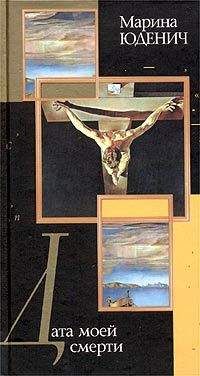Смерть, любовь и мужчины Елены Майоровой - Радько Наталья Ефимовна
ГЛАВА 12
Через два месяца после смерти жены Сергей Шерстюк скажет кому-то из журналистов, и это опубликуют десятки газет: «Да, она не ходила на репетиции и находилась в жутком состоянии. Я почувствовал, что происходит что-то ненормальное, но слишком поздно сообразил, что это чума». И уехал на дачу. Естественно, она не пыталась и не хотела его задержать. Не из-за гордости. Для нее это уже просто не имело смысла. Это не она подошла к пропасти, это пропасть приблизилась к ней. Если она не ходила на репетиции, значит, не могла дышать. «От страха жить и от предчувствия кончины». А рядом все время находился самый близкий человек. Он пил с ней чай, спал на одной кровати, она слышала его дыхание. Он все заметил, она знала, что он всегда все замечает. Просто он решил, что все обойдется без его вмешательства. Какое чудовищное недоразумение. Она не знала, что он вскоре смертью докажет свою преданность ей, он поздно сообразил, что это «чума».
Что бы Елена ни делала, как бы не выглядела, для Сергея она всегда была лучшей из женщин, любимой женой, желанной любовницей, музой и моделью художника. Она любила его любовь, ценила ум и талант, некоторые из его картин нравились ей гораздо больше, чем ему. Когда он продал одну из них, она страшно расстроилась. Два таких независимых человека были очень зависимы друг от друга. Он ввел ее в богемный мир Москвы, познакомил с интересными людьми, он, конечно, причастен к тому, что она как личность становилась все изысканнее и сложнее. Я просматривала «Светскую хронику» 90-х. Там встречаются такие фразы: «На выставке (презентации и т. п.) присутствовал известный художник Сергей Шерстюк со своей обворожительной женой Еленой Майоровой — примой МХАТа». Его картины быстрее и дороже продавались на Западе, чем у нас. Ему и работалось лучше в других странах и жилось бы проще. Например, в Америке. Но он знал, что это исключено по одной причине: Лена должна играть и сниматься в России. Где и как ей начинать все с нуля?
Она не только позировала ему. Она помогала ему найти мысль, войти в образ для очередной работы. В его «Книге картин» есть такое воспоминание. Они были в Америке, он просто боролся со своим полотном, что-то главное распадалось, ускользало. И тогда она ему сказала: «Мы сейчас одни. Не только в этой квартире. Мы во всем доме одни. Можешь пройтись по всем балконам, забраться на крышу…» Она, как хороший режиссер, вела его к нужному настроению. Весь мир — твой. Картина получилась.
Но иногда она искала в нем «положительные качества», как пионерка-отличница, и впадала в отчаяние, если чего-то не обнаруживала. Он с горечью вспоминал смешной, в общем-то, случай. Они были на Сахалине, гуляли по парку, наткнулись на грибы. Катались на всех аттракционах. Наконец, дошли до качелей в виде лодок, которые надо раскачивать и затем крутить «солнце». «Так вот, раскачивая качели, мы восторженно кричали: «Давай! Ну давай!» Вот мы уже взлетели выше перекладины, за которую крепилась наша лодка, вот еще поднажать чуть-чуть — и мы замрем над землей вверх ногами, чтобы, завалившись вниз и поднажав еще чуть-чуть, закрутить наконец-то «солнце». И вдруг ноги у меня подкашиваются, я сползаю к сиденьям и кричу: «Не-е-ет!» — «Почему?» — «Не-е-ет!» — кричу Лене и вижу, что ничего не вижу: ее изумления, сменяющегося отчаянием, потом отвращением, — и понимаю, что ничего не понимаю: своего страха — за нас ведь! — сменяющегося пустотой и желанием спать. Мы спускаемся на землю, бредем по аллее, я хочу спать и слышу:
«Ты трус, Шерстюк, какой же ты трус, а ведь осталось чуть-чуть, эх…» Я бормочу: «Я с любого камня в море прыгаю, я на турнике солнце кручу…» — «Помолчи».
Ты никогда не могла мне этого простить, чаще смеялась, но иногда обхватывала лицо руками и говорила: «Я никогда тебе этого не прощу, ну как же ты мог так струсить? Ты трус, Шерстюк».
Конечно, если подумать, то эта история — тоже о том, как они любили друг друга. Он так страдал из-за того, что не оправдал ее надежд на этих качелях. Она по-настоящему переживала из-за того, что он не самый храбрый на свете. Ей хотелось, чтобы он во всем был лучше всех.
Сергей не зря так болезненно воспринял тот случай. Пройдет немало лет, и не только он — мы все содрогнемся от страха и боли. Такой бесстрашной окажется Лена Майорова.
Маша из «Трех сестер» — самый сложный, противоречивый персонаж в пьесе. Интеллигентная и прекрасная, как все лучшие чеховские женщины, она не слишком терпеливая, совсем не кроткая, она ропщет из-за того, что судьба выдает ей крохи счастья, как нищенке на паперти. Ефремов правильно выбрал актрису на эту роль — Майорову. Именно она могла сыграть совершенно другую Машу, какой еще не видела сцена МХАТа. Но работа превратилась в пытку. Ефремов со своей отвергнутой рукой и таким же сердцем орал на Лену, грозился снять с роли. Она чувствовала себя загнанной. «И уже в себя не верила», — это ее слова. Сексопатолог может подтвердить: если отвергнутый мужчина постоянно находится рядом с объектом своих желаний, он стремится к возбужденным, нервным отношениям. Это его компенсация, иногда почти полноценная. Тем более в контакте режиссер — актриса, в котором вся власть у одного. У Елены Майоровой было свое прочтение образа, Ефремов требовал другого: «К себе, к себе и познавай характер. Она резкая, грубая, она и врезать может». Лена кричала, что это хамство. Он в ответ: «Это вы хамы, вы!» В результате выиграл театр. Маша — Майорова, уставшая от несправедливости и унижений, не прятала ни свою запретную страсть к женатому человеку, ни свою трагедию, раздавившую обычную женскую жизнь. Она стонала, как от ран, расставаясь с Вершининым. Она говорила низким, хрипловатым голосом, в котором, конечно, не было ни резкости, ни грубости. Она была предельно откровенной. Не в роли. Не в позе. Это кровоточило отчаяние гордой женщины. Женщины, которая не видела ни света, ни выхода. Людмила Петрушевская написала, что Маша — лучшая роль Майоровой. А эта писательница знает, что это такое — прожить чужую трагедию, как свою. Это был успех, но такая честная и страстная актриса, как Елена Майорова, пришла бы к нему и нормальным путем. Для того чтобы хорошая актриса сыграла трагическую роль, ее в принципе не нужно сознательно доводить до отчаяния на каждой репетиции. Говорили, что Лену Майорову пугала необходимость в следующем сезоне вернуться к роли Маши. То есть были вещи, которых и она боялась. Причем, как оказалось, больше смерти.
(УКРАДЕННАЯ КНИГА)
27 января 1997 года.
«…Тихонечко листал на больничной койке газету, натыкаюсь…
МХАТ им. Чехова… 24 — «Тойбеле и ее демон» И. Зингера. Вместо Елены Майоровой, трагически ушедшей из жизни, эту ее звездную роль превосходно играет Оксана Мысина.
Театр им. МОССОВЕТА… 25 — «Милый друг»…
Я понимаю, что хочу или другое читать: «Идите на звезду Елену Майорову», или ничего не читать, ну чтоб газеты об этих двух театрах вообще никогда не упоминали. Я когда по двору своему иду, так вроде и не знаю, что вот он, Театр им. Моссовета. Театры — убийцы? Не-е-ет. Это уж я скорее. А могу ведь и так: я. А театры — скорее врачи: могут залечить, зарезать, но и вылечить, надежду дать; я не знаю, кому так было больно в театре, но кто еще так по-детски любил театр, как Леночка?»
Если пойти по пути размышлений Сергея Шерстюка, можно, наверное, так подытожить. Она любила театр, что причиняло ей сильную боль. Было немало людей, которые доводили эту ее боль до крайности. Кто скажет, выживает ли в таком случае любовь? Вот она и выбрала боль без любви. «Я — артистка». Вряд ли она представляла себе, что любимый и любящий человек легко назовет себя убийцей.
Кошмар, конечно. За два месяца до смерти Лена Майорова даст последнее интервью в гостиной Ксении Лариной из «Эхо Москвы»:
«— Кто помогает тебе жить этой жизнью?
— Да. У меня муж есть, очень хороший. Сереженька Шерстюк. Он, наверное, сейчас слушает меня. Он художник. Не был бы он художником…