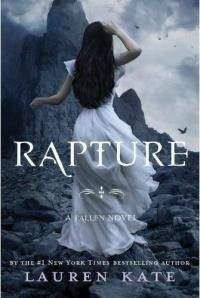Александр Ширвиндт - Склероз, рассеянный по жизни
Пиком рыбного развала являлся скромный «ценник» (так называлась мятая вонючая бумажка, на которой хим. карандашом была нарисована цифра, обозначающая размер рублевой значимости лежащего под «ценником» продукта), покоящийся над пирамидой черепов типа верещагинского «Апофеоза войны» – где было по-русски написано: «Головизна осетровая». Это разного размера черепа осетров, гильотинированные под самые жабры, с выпученными от предыдущих кулинарных пыток глазницами. Я, по молодости и глупости, всегда спрашивал себя: сколько же нужно сожрать там, где их жрут, осетровых тел, чтобы всему оставшемуся московскому населению с лихвой хватило одних только черепов?
В советское время существовал бредовый лозунг о содружестве искусства и труда. Подразумевалось, видимо, что искусство – это не труд. У нашего театра тоже был союз «с трудом» – с ЗИЛом и Сахарорафинадным заводом имени Мантулина. Нас даже сделали почетными членами бригады какого-то цеха и ударниками коммунистического труда. С сахаром у нас всегда было благополучно, с автомобилями и холодильниками «ЗИЛ» хуже.
Но есть надо было что-то кроме сахара.
Звонит мне как-то удивительная и непредсказуемая Нонна Мордюкова – вскоре после того, как ей где-то на самом высоком уровне присвоили звание лучшей актрисы столетия, и говорит: «Шура! Срочно выбирай день, и едем в совхоз за 120 километров от Москвы. Дадут 100 яиц и кур, а может быть, и свинины». Я положил благодарно трубку и представил себе, как Софи Лорен телефонирует Марчелло Мастроянни и предлагает смотаться в Падую за телятиной.
Из чего складывается индивидуальность? Из непредсказуемости. От меня можно ждать всего или ничего. Я, например, не умею отдыхать. Я умею работать или ничего не делать. Я ем вареный лук. Не прикидываюсь – люблю. Несут со всего дома много и охотно, при этом даже как бы возвышаясь в собственных глазах: ну еще бы, народного артиста подкормили! Я реально вижу весь процесс: хозяйка варит щи, вылавливает из кастрюли склизкий кругляш, подносит его к помойному ведру и тут вспоминает, что в третьем подъезде живет сумасшедший, который жрет эту мерзость. Кладет лук на блюдечко и несет мне. Тут надо быть бдительным и понять по состоянию луковицы, не поздно ли обо мне вспомнили и не попала ли луковица на блюдечко уже из ведра.
Ну а если даже из ведра? Цивилизация и высокие технологии сегодня проникли во все слои общества. В нашем доме два крыла расположены очень далеко друг от друга. И вот у двоих из бомжей, которые каждое утро роются в мусорных баках, есть сотовые телефоны.
Бомжиха звонит своему дружку на другое крыло здания: «Ветчинку не бери – я взяла, а вот сырка нету». Они сервируют себе завтрак.
Вкусно поесть для меня – это пюре, шпроты, гречневая каша со сметаной (с молоком едят холодную гречневую кашу, а горячую – со сметаной). Я обожаю сыр. Каменный, крепкий-крепкий, «Советский», похожий на пармезан. Еще люблю плавленые сырки «Дружба». Главное, чтобы они не были зеленые от старости.
Я люблю накрывать стол. И умею. Но не хочу. Потому что как представишь себя в роли метрдотеля или шеф-повара, которым предстоит пережить шок: ты стараешься, неделю витаешь в творческих эмпиреях, сочиняешь все это. Стол – картинка! Пиши с него фламандские натюрморты для Лувра и Эрмитажа. И тут свора жаждущих кидается к столу. Куликово побоище! Я всегда сочувствовал рестораторам и их шеф-поварам, накрывающим торжественный стол. Как они переносят зрелище того, что неизбежно происходит в финале?
Я абсолютный говноед. Единственное, чего не могу есть, – это чеснок. Не выношу холодец, студень и все, что дрожит. Если где-то пахнет чесноком, начинаю задыхаться. У меня партнерши были замечательные – Людмила Гурченко, Алена Яковлева, Ольга Яковлева. Они все лечились чесноком. Но, зная, что я не переношу его запах, чем-то сверху пшикали. И получалось еще ужаснее, когда целовался с ними (на сцене, на сцене).
В старости нельзя рыпаться никуда – худеть, толстеть, бросать пить, начинать пить. Самое страшное – когда прут против конституции. Это касается и физиологических проблем, и общегосударственных.
И сила воли нужна во всем. На слабой воле большинства и построена вся шарлатанская реклама. «Бросить пить окончательно и бесповоротно за один сеанс!», «Похудеть на 30 килограммов навсегда! Дорого». А я знаю способ лучше и дешевле: когда чувствую, что не влезаю в свои бархатные брючки из спектакля «Орнифль», то понимаю, что пора брать себя в руки. Как? Перестать жрать! Вот тянешься к блину – и сразу вспоминай: блина не надо – грядет «Орнифль»!
Есть старый анекдот. Лежит оперный тенор с дамой в постели. Весело, уютно, свеча горит. Начинаются ласки. Звонок. Он берет трубку: «Да? Угу. А, спасибо…» Кладет трубку. «Деточка, одевайся, уходи, ничего не будет, у меня через месяц – «Аида». Так вот, если через месяц «Аида» и есть ощущение невлезания в театральный костюм, а он, как назло, такой, что клин в задницу не вставишь, тогда я выдерживаю неделю без еды.
Только решать – не есть после шести, не пить или не делать еще чего-то – надо сразу, прямо сейчас. А если начнешь откладывать до утра следующего понедельника – ничего не выйдет. Здесь все зависит от смелости. А когда оттягиваешь, значит, трусишь.
Чем ближе к финалу, тем меньше можно пить молока. «Не-не-не, – говорят доктора, – ты свое отпил». Вообще сколько я всего уже отпил: водку отпил, коньяк отпил, кофе тоже. Не отпил только какой-то зеленый чай.
Когда мы читали в ихней литературе, что герои шли и заказывали в баре кальвадос, бог знает что воображалось. А оказалось – яблочная водка. Теперь, пробуя то одно, то другое в нынешнем изобилии, вспоминаешь прежде всего романтическое ощущение от прочитанного. Но в этом безграничном выборе тоже надо знать меру, чтобы себя не потерять. У меня вкусы остались прежние: больше всего люблю «Анисовую». Вот эти самые «капли датского короля». Пью или ее, или просто водку (пиво вообще не алкоголь, пиво – это мочегонное).
Когда-то я был на юбилее Георгия Шенгелая. А в Грузии тогда еще принимали по-настоящему, и за столом сидело человек триста. И у каждого стояло то вино, которое этот человек любит. И только возле моего прибора стояла пол-литра.
Я пью давно и много. Удар держал всегда. Ныне, на склоне лет, конечно, силы не те. Поэтому надо хорошо понимать, когда пора уходить. Это процесс – обратный тому, что было в молодости. Тогда основное ощущение: «Только все началось!» Теперь же включается что-то вроде ограничителя на спидометре: зашкаливает, пора тормознуть. Но с гордостью могу сказать: хотя пару раз меня под белы ручки… нет, не будем вдаваться в подробности, но полной отключки у меня никогда не было.
Я все уже прошел: игры, шутихи, остроты, безудержные праздники, шампанское, коньяки, горы закуски и отсутствие ее… Периоды буйного веселья отошли, как воды перед родами.
* * *Я поздно задымил, уже в институте. Сначала курил папиросы «Беломорканал». Потом у нас произошла оранжевая революция, и мы перешли на сигареты «Дукат» в оранжевых пачечках, по 10 штук в каждой. А трубку тогда курил в стране один человек – Сталин.
Трубкой меня заразил значительно позже мой друг, замечательный оператор-международник Вилли Горемыкин. Он был человеком, глубоко и по-настоящему ненавидевшим театр. При всей любви ко мне он так и не смог за нашу тридцатипятилетнюю дружбу досмотреть ни одного спектакля. У него была редкая болезнь – «чахотка театральная»: он начинал кашлять минут через пять-шесть после открытия занавеса и, немного поборовшись с недугом, осторожно уходил, чтобы не мешать наслаждаться спектаклем рядом сидящим.
Запрещенная страсть. С Виктором Суходревом и Станиславом Говорухиным
Вилли ездил на съемки за границу со всеми вождями и генсеками – входил в команду хроникеров программы «Время» и всегда привозил оттуда что-нибудь, а мы, как птенцы, ждали с открытыми клювами – кому джинсики перепадут, кому грампластинка…
Но первым в нашей компании стал курить трубку Виктор Суходрев. Витя работал на переговорах со всеми – начиная, кажется, с Линкольна и Вашингтона. Он был гениальным переводчиком – смог, например, перевести хрущевскую «кузькину мать» на язык Шекспира. Когда он возвращался из-за рубежа с очередной встречи, мы ехали на дачу, гуляли, естественно, пили. И устраивали традиционную игру: кто быстрее по-пластунски доползет от одного конца забора до другого.
Четыре часа утра. Ползем, задыхаясь, между лягушек. Берем тайм-аут в середине пути и спрашиваем Витю: «Ну, расскажи – здесь никого нет». И он говорил: «Только никому не проболтайтесь, сугубо между нами». Мы клялись молчать, и он выбалтывал политические тайны. Утром эти тайны слово в слово были в газете – великий профессионал.
Витя тогда жил в Каретном Ряду. У него собирался элитный «трубочный салон» – такой внутренний клуб середины 60-х. Тех, кто курил трубки, можно было по пальцам пересчитать. Среди них – иностранные корреспонденты и наши, но с именами Луи и Люсьен. На столе стояло диковинное по тем временам виски, лежали иностранные журналы – «Плейбой», например. Виктор привозил их свободно, потому что летел с Хрущевым и его не трясли. У любого другого приземление с такой прессой могло стать последним.