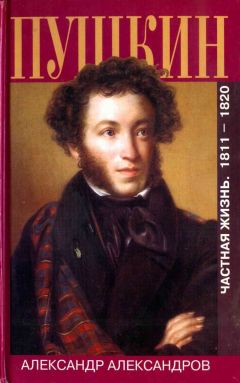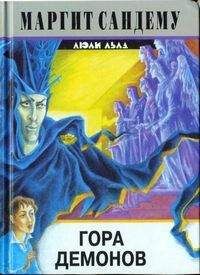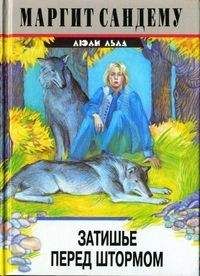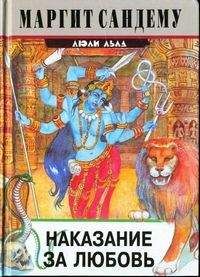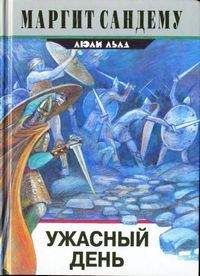Александр Александров - Пушкин. Частная жизнь. 1811—1820
Вдруг раздался громкий хлопок, и огурец выскочил из дырки, паштетное произведение развалилось надвое, и из паштета выступил Карла-головастик с другим подносом, на котором был паштет в виде такой же точно, но маленькой задницы и маленьким соленым огурчиком в ней, в другой руке карлик держал букетик цветов, который, галантно раскланявшись, преподнес одной из прелестниц.
Собравшиеся расхохотались, некоторые, не выдержав смеха, попадали на диваны. Улыбались и прелестницы, которые в своей жизни ко всему привыкли.
— Прошу за стол, прошу за стол, — царским жестом пригласил всех Нащокин, и друзья стали рассаживаться согласно карточкам, поставленным перед приборами. Перед каждым прибором стояли гигантские стеклянные члены, в которые наливались вина.
Карла-головастик бродил по столу и подливал каждому. Датские собаки бегали вокруг стола и просовывали свои большие умные морды между гостей. Нащокин целовал своего любимого кобеля и вспоминал батюшку, которого на самом деле почти не помнил, ибо он умер, когда Павлу было лет пять.
Он ждал, когда подадут кулебяку в десять слоев, по старинному рецепту батюшки: сначала каша из обварных круп, затем — рубленые яйца, потом семушка, фарш из телятины, потом, кажется, тешка, снова каша из смоленских круп на молоке, стерляди, налимы и налимовы печенки (тут Нащокин почувствовал, как слюна собирается во рту), далее фарш из налимов и щук, сладкое мясо да мозги из говяжих костей. Уф!
— Кулебяку! — закричал он. — Несите, черти, кулебяку!
И опрокинул целый фаллос красного вина.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ,
«Все близкое и знакомое мне в России год от году исчезает», — думал князь Вяземский, перед самой смертью помещенный в Бонне в лечебницу для душевнобольных, а попросту, если сказать по-русски, посаженный в сумасшедший дом. За запертой дверью в коридоре сидела на стульчике, опершись на трость, старая княгиня Вера Федоровна и прислушивалась к тому, что происходит к его комнате. Она развязала и сняла старинный чепец, чтобы лучше слушать, что происходит за дверью. Но там была тишина, потому что князь просто думал: «Россия все более и более становится для меня Помпеей. Как отыскать в ней жизнь, которую я знал, что, собственно, и было жизнью для меня, не осталось даже внешности, под слоем лавы погребены люди, идеи, мечты, весь материальный мир, лишь иногда какая-то попавшаяся на глаза старая вещица вроде табакерки или пенковой трубки вызовет из памяти целый сонм воспоминаний, и опять все канет под слоем золы и пепла».
— Зола и пепел! — сказал он вслух и прокричал: — Зола и пепел! Помпея!
Вера Федоровна привстала, прислушиваясь, но крик не повторился, князь затих. Она снова села и стала с обидой вспоминать, как вчера на гулянье он кинулся на нее с кулаками, приревновав к проходившему мимо молодому человеку, который им поклонился, это ее-то приревновал, восьмидесятилетнюю старуху с клюкой.
Вера стала объяснять ему про молодого человека, что это их хороший знакомый Иван Петрович Хитрово, что он лицейский, давно знаком с князем, что сегодняшним утром они уже виделись и даже говорили, а сейчас Иван Петрович, видимо, спешил на почту, но все было бесполезно, князь не хотел ничего слышать, закричал, что знает он этих лицейских, насмотрелся за свою жизнь, позволил себе выражаться даже по-матерному, а пока он кричал, вдруг откуда-то появились врачи с санитарами, подхватили под белы руки и увели в комнату, сняли и отдали княгине его очки.
Бессонница, раздражение, одиночество, нестерпимое, вечное, как муки ада… Дайте хлорала, чтобы забыться. Морфий, хлорал, без этого нет уже сна и покоя… «Нас взвел на ту высоку гору, где без хлорала сон растет». Хрен с маслом, сон давно не растет без хлорала!
Вот доктор приносит в флаконе едкую бесцветную жидкость, к ней привыкаешь и уже не можешь без нее обходиться… Перед сном-забытьем приходят и обступают тебя друзья, давно ушедшие, сгоревшие в помпейском огне, но не поблекшие в памяти, вот почему так явственно потом кажется, что Вера молода и кокетничает, ведь было когда-то, было… Пушкин говаривал, что как скоро ему понравится женщина, то, уходя или уезжая от нее, он долго продолжает быть мысленно с нею и в воображении увозит ее с собою, сажает в экипаж, предупреждает, что в таком-то месте будет толчок, одевает ее плечи, целует у нее руку… Однажды княгиня Вера, посылая к нему слугу, велела спросить, с кем он тот день уезжает. «Скажи, что сам-третий», — отвечал Пушкин. Услыхав этот ответ, «Третьею, верно, ты», — заметил тогда князь.
Где она сейчас? Уехала? А свой веер забыла на стуле. А что это болтается здесь и свисает с кровати? Ремень? Зачем?
Он наклонился: их два, таких ремня, как это он раньше их не заметил! Привязывать буйных к кровати. «Не дай мне Бог сойти с ума». Неужели сошел?! Как Батюшков?! Неужели заперли?! Но разве я буйный? Нет. Ночная ваза стоит, пустая, не закрытая крышкой. Вера забыла закрыть, она старается не пускать к нему служанок, сама ревнует, он видит: для того и сидит у дверей, чтобы он не побежал налево. Ха-ха-ха, а он уже и не может побежать, не стоит у него давно прибор, но Вера этого не знает… Или делает вид, что не знает? Он стал прислушиваться, что происходит в коридоре, он знал, что она сидит там, сидит каждый день, но не одна, порой она говорит с кем-то. Это, наверное, врачи. Советуется с ними. Вот уже хлорал действует, хорошо, что он упросил увеличить дозу. Кто это? Где я? В Петербурге? Но я же был в то время в Варшаве, откуда я знаю про гульбу у Пашки Нащокина? Про хуи в стаканах, нет, про стаканы в виде фаллосов. Ах да, сам он мне рассказывал, и Сашка что-то говорил, смеялся. Пушкин тоже сошел бы с ума, если бы не погиб, а вот Пашка Нащокин нет. Нащокин умер давно, а вдовушка его, надолго пережившая мужа, тоже Вера, кажется, Александровна, сколько раз приходила к нему с просьбами, всегда доставала потрепанные письма Пушкина мужу из старого ридикюля, зачитывала отрывки, всплакивала, но из рук письма не выпускала и даже не давала списать. При той любви, которая была еще в те времена к другу ее мужа, великому поэту, она всегда получала помощь. Помнится, благотворительная Александра Васильевна Протасова была так ею разжалоблена, что сняла для нее годовую квартиру и снабдила всем нужным для порядочного житья.
А сколько раз он сам писал ей рекомендательные письма ко двору, когда двор приезжал в Москву, и всегда она что-то там выцыганивала, какое-нибудь щедрое пособие. Выцыганивала, надо же, словечко очень подходящее к Нащокину, который постоянно жил с цыганками, хотя Вера цыганкой не была, а видно, стала по характеру от общения с покойным супругом.