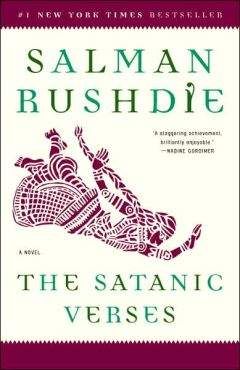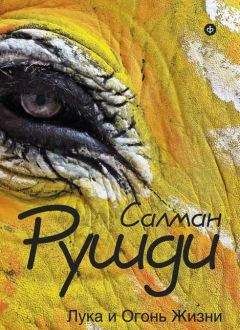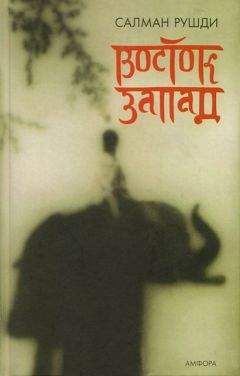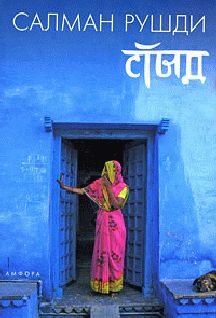Салман Рушди - Джозеф Антон
Эти планы включали в себя сознательную линию на то, чтобы его часто видели в общественных местах. Никакой больше игры в прятки. Он будет есть в ресторанах «Балтазар», «Да Сильвано» и «Нобу», ходить на просмотры фильмов и презентации книг, на виду у всех проводить время в таких допоздна открытых заведениях, как «Мумба», где Падму хорошо знают. Разумеется, в некоторых кругах на него будут смотреть как на этакого «монстра вечеринок», кое-кто будет над ним насмехаться — но он не знал другого способа показать людям, что его присутствия не надо бояться, что теперь все будет по-другому, что это нормально. Только такая жизнь, открытая, зримая, бесстрашная и привлекающая из-за этого внимание газет, могла изгнать боязнь из окружающей его атмосферы, боязнь, которая, он считал, была теперь более серьезной проблемой, чем какая бы то ни было иранская угроза, если она еще существовала. И Падма, несмотря на свои частые перемены настроения, на свою способность к капризным выходкам «образцовой модели» и на нередкие периоды холодности по отношению к нему, согласилась — и это делает ей великую честь, — что именно так ему следует жить, и была готова делить с ним эту жизнь, хотя ее дед К. К. Кришнамурти («К. К. К.»), обитатель мадрасского района Безант-Нагар, говорил в интервью различным изданиям, что он «в ужасе» из-за присутствия этого Рушди в жизни внучки.
(За годы, которые они провели вместе, он несколько раз побывал у мадрасских родственников Падмы. К. К. К. вскоре перестал быть противником их отношений: он не может, сказал он, возводить барьер между любимой внучкой и тем, что, по ее словам, делает ее счастливой. «Этот Рушди», в свой черед, стал думать о семье Падмы как о лучшей ее части, как об индийской части, в которую ему так хотелось верить. Он особенно сдружился с Нилой, младшей, причем намного, сестрой ее матери; Нила была Падме не столько тетей, сколько старшей сестрой, и он сам обрел в ее лице почти что новую сестру. Когда Падма оказывалась среди своих мадрасских родных, людей добродушных и в то же время серьезных, она становилась другим человеком, более простым, менее склонным манерничать, и сочетание этой мадрасской безыскусности с ее ошеломляющей красотой было совершенно неотразимо. Порой он думал, что, сумей они с ней построить семейную жизнь, которая давала бы ей такое же ощущение безопасности, как этот маленький безант-нагарский мирок, она, возможно, позволила бы себе раз и навсегда отбросить то, что мешало проявляться ее непритязательному лучшему «я», и, если бы она это смогла, они безусловно были бы счастливы. Но жизнь припасла для них другое.)
В лондонском Национальном театре давали «Орестею», и, подвергаясь бесконечным нападкам СМИ (и в тысячный раз задумываясь из-за кровожадных голосов, прозвучавших, как обычно, в Иране в годовщину фетвы, разумно ли он ведет себя), он задавался вопросом: неужели его до конца дней будут преследовать три яростные фурии, три богини мести — фурия исламского фанатизма, фурия недоброжелательства прессы и фурия в лице рассерженной брошенной жены? Или для него все же настанет день, когда с его дома, как с дома Ореста, будет снято проклятие, когда его оправдает суд некоей современной Афины и ему будет позволено прожить остаток лет в спокойствии?
Он писал роман под названием «Ярость». Организаторы и нидерландской Книжной недели предложили ему — первому из иностранных авторов — написать книгу для «подарка». Каждый год на протяжении Книжной недели такой подарок вручался всякому, кто покупал в магазине какую-нибудь книгу. Так раздавались сотни тысяч экземпляров. Обычно это были книги небольшого объема, но «Ярость» выросла в полномасштабный роман. Вопреки всему, что происходило в его жизни, эта вещь изливалась из него, требовала выпустить ее наружу, настаивала, чтобы он произвел ее на свет, с почти пугающим упорством. Вообще-то он уже начал работать над другим романом — над книгой, которая в конце концов вышла под названием «Клоун Шалимар», — но «Ярость» вломилась без спроса и на время оттеснила «Шалимара» в сторону.
Идея, лежащая в сердцевине книги, состояла в том, что Манхэттен, когда он там появился, переживал, сам это сознавая, золотой век («город бурлил от избытка денег», писал он), а такие «вершинные моменты», он знал, всегда кратки. И он решил пойти на творческий риск: попробовать, переживая текущий момент, ухватить его, отказаться от исторической перспективы, сунуть нос в настоящее и занести его на бумагу, пока оно еще происходит. Если у него получится, думал он, то сегодняшние читатели, особенно ньюйоркцы, испытают радость узнавания, удовлетворение от возможности сказать себе: да, так оно и есть, а в будущем книга оживит этот момент для читателей, родившихся слишком поздно, чтобы его пережить, и они скажут: да, так оно, видимо, и было; да, так оно было. Если же у него не получится… ну, там, где не может быть неудачи, не может быть и успеха. Искусство — всегда риск, оно всегда творится на грани возможного, оно всегда ставит автора в уязвимое положение. И ему нравилось, что это так.
По городу перемещался персонаж, которого он сотворил и похожим, и непохожим на себя. Похожим — в том, что он был такого же возраста, индиец по происхождению, человек с британским прошлым, переживший крушение семьи и недавно переселившийся в Нью-Йорк. Он хотел, чтобы читателю сразу стало ясно: он не имел возможности и не пытался писать об этом городе так, как мог бы о нем написать коренной житель. Он решил сочинить нью-йоркскую историю другого рода, тоже характерную: историю о новоприбывшем. Но он сознательно, чтобы отграничить героя от его создателя, сделал своего Малика Соланку отчужденным, лишившимся внутренних устоев брюзгой. Довольно-таки кислое отношение Соланки к городу, куда он приехал в надежде спастись, его разочарование в этом городе носит нарочито, комически противоречивый характер: его отталкивает то же, что и притягивает, он брюзжит по поводу того самого, ради чего оказался в Нью-Йорке. И Фурия, воплощение ярости, — не какое-то существо, преследующее Малика Соланку извне, когтящее его голову, а то, чего он больше всего боится внутри себя.
Саладин Чамча в «Шайтанских аятах» был другой его попыткой изобразить свое, так сказать, «анти-я», и озадачивает, что в обоих случаях персонажи, которых он специально сделал иными, нежели он сам, были многими восприняты как простые автопортреты. Но Стивен Дедал не был Джойсом, Герцог не был Беллоу, Цукерман не был Ротом, Марсель не был Прустом; писатель всегда, как матадор, работает близко к быку, играет с автобиографией в сложные игры, но его творения интересней, чем он сам. Разумеется, все это хорошо известно. Но известные вещи люди склонны забывать. Ему приходилось уповать на то, что ясность наступит с годами.