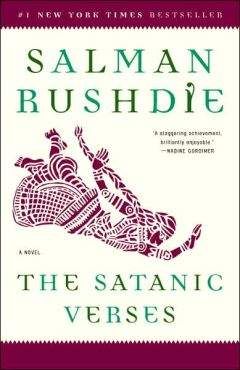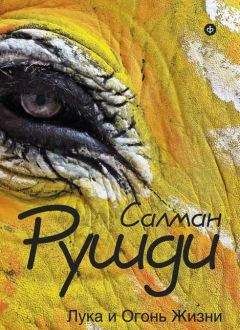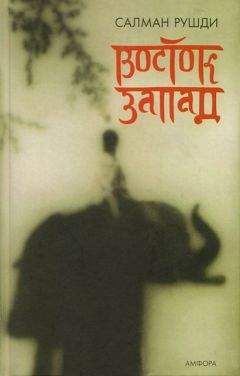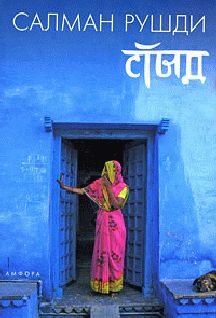Салман Рушди - Джозеф Антон
В середине июля они на девять недель отправились в Бриджгемптон в дом Гробоу, и в эти-то недели он и поддался своей милленаристской иллюзии.
Даже если ты не верил, что приближающийся миллениум — конец тысячелетия — сулит второе пришествие Христа, тебя могла соблазнить романтическая «милленаристская» идея, что такой день, наступающий раз в тысячу лет, может принести великую перемену и что жизнь — жизнь всего мира, но еще и жизнь конкретного человека в нем — в новом тысячелетии, возможно, станет лучше. Что ж, надеяться — это не запрещено, подумал он.
В начале августа 1999 года милленаристская иллюзия, которая возьмет над ним власть и изменит его жизнь, явилась ему в женском обличье — где бы вы думали — на острове Либерти. Ну разве не смешно, что он встретился с ней под статуей Свободы? В художественной литературе символика этой сцены показалась бы избыточной и тяжеловесной. Но жизнь как она есть порой вдалбливает в тебя свое так, чтобы ты уж точно усвоил, и в его жизни как она есть Тина Браун и Харви Уайнстайн[266] устроили на острове Либерти вечеринку на широкую ногу, отмечая рождение своего журнала «Ток», которому не суждено было долголетие, и расцветали фейерверки, и Мейси Грей пела: I try to say goodbye and I choke, I try to walk away and I stumble[267], и список гостей охватывал весь человеческий спектр от Мадонны до него самого. В тот вечер он не встретился с Мадонной лицом к лицу, а то, может быть, спросил бы ее про слова, которые ее помощница Каресс сказала телепродюсеру, пославшему Мадонне экземпляр «Земли под ее ногами» в надежде на благосклонный отзыв из уст знаменитости — ведь главной героиней книги была пусть вымышленная, но рок-певица, звезда первой величины. «О нет, — заявила Каресс. — Мадонна не прочла эту книгу. Она ее растерзала». (Несколько лет спустя, когда они с Зэди Смит[268] встретили Мадонну на вечеринке журнала «Вэнити фэр» по случаю вручения «Оскаров», она говорила только о ценах на недвижимость в лондонском районе Марбл-Арч, и он не решился поднять вопрос о растерзанной книге — не решился еще и потому, что они с Зэди из последних сил сдерживали смех, глядя на высокого, породистого молодого итальянского жеребца, который, похоже, сумел произвести впечатление на госпожу Чикконе. «Вы ведь итальянка? — соблазнительно шептал он ей, низко наклонив голову. — Мне это сразу видно…»)
Элизабет осталась в Бриджгемптоне с Миланом, а он поехал в город с Зафаром, Мартином и Исабель. К деревьям на острове Либерти были подвешены лампочки, от воды налетал освежающий летний ветерок, они никого здесь не знали, да и попробуй разгляди в густеющих сумерках, кто есть кто, но в этом не было ничего плохого. И вот под китайским фонариком у пьедестала, на котором высилась огромная медная дама, он лицом к лицу встретился с Падмой Лакшми и сразу понял, что уже видел ее — вернее, видел ее фотографию в итальянском журнале, где поместили и его снимок, — и ему вспомнилось, что он тогда подумал: «Если когда-нибудь с ней познакомлюсь — все, моя песенка спета». Теперь он сказал: «Вы — та красивая индианка, которая вела программу на итальянском телевидении, а потом вернулась в Америку, чтобы стать актрисой». Она не верила, что ему могло быть о ней известно, и поэтому начала сомневаться, что он — тот, кем она его сочла, и заставила произнести его имя и фамилию, после чего лед был сломан. Нескольких минут разговора им хватило, чтобы обменяться телефонами, и на следующий день, когда он ей позвонил, номер был занят, потому что она в этот момент звонила ему. Он сидел в своей машине у бухты Микокс-Бэй на Лонг-Айленде, смотрел на сверкающую воду и чувствовал, что его песенка спета.
Он был женатый человек. Дома его ждали жена и двухлетний сын, и, не будь обстановка в семье такой, какой она была, до него дошла бы очевидная истина, что видение, в котором, казалось, воплотились все его чаяния — мисс Свобода из плоти и крови, — не что иное, как мираж, и что броситься к ней, словно она существует на самом деле, значит навлечь беду на себя, причинить немыслимую боль жене и взвалить непомерную ношу на плечи самой Иллюзии — американки индийского происхождения, у которой были честолюбивые замыслы и тайные планы, не имевшие ничего общего с исполнением его глубинных желаний.
Ее имя и фамилия были диковинкой — именем, рассеченным надвое матерью после развода. Она родилась в Дели (хотя бóльшая часть ее семьи, принадлежавшей к тамильским брахманам, жила в Мадрасе), и поначалу ее звали Падмалакшми Вайдьянатхан, но Вайдьянатхан, ее отец, бросил ее и ее мать Виджаялакшми, когда девочке был всего год. Виджаялакшми немедленно избавилась от фамилии бывшего мужа, превратив свое имя, как и имя дочери, в имя и фамилию. Вскоре она эмигрировала с дочкой в Америку, получила ответственную должность медсестры в онкологическом центре Слоуна и Кеттеринга в Нью-Йорке, затем переехала в Лос-Анджелес и снова вышла замуж. Падма впервые встретила отца, когда ей было без малого тридцать лет. Еще одна женщина, рано лишившаяся одного из родителей. Его любовная жизнь раз за разом повторяла один и тот же образец.
«Ты погнался за иллюзией и ради нее принес в жертву свою семью», — сказала ему потом Элизабет, и была права. Призрак Свободы был миражом, мечтой об оазисе. Эта женщина, казалось, соединяла в себе его индийское прошлое и его американское будущее. Она была свободна от мучивших их с Элизабет опасений и забот, от которых Элизабет никак не могла отрешиться. Она была его мечтой о том, чтобы отрешиться от всего этого и начать сызнова, — американской мечтой, грезой о корабле «Мэйфлауэр», на котором прибыли в Америку первые колонисты, фантазией еще более манящей, чем ее красота, а красотой она затмевала солнце.
Дома — очередная крупная ссора из-за того, из-за чего они ссорились теперь постоянно. Желание Элизабет в ближайшем будущем завести еще детей, которое он не разделял, вступало в конфликт с его недоосуществленной мечтой обрести в Америке свободу, которой она боялась, и этот конфликт неделю спустя погнал его в Нью-Йорк, где в его номере в «Марк-отеле» Падма сказала ему: «У меня внутри сидит другая „я“, плохая, и когда она выходит наружу, она просто берет то, чего ей хочется», — но даже это предостережение не заставило его со всех ног ринуться домой, в свою супружескую постель. Его Иллюзия стала слишком могущественна, чтобы ее могли рассеять какие бы то ни было доводы, выдвигаемые действительностью. Нет, она не могла быть той мечтой, с которой он ее отождествлял. Ее чувство к нему — он в этом убедится — было настоящим, но оно было перемежающимся. Честолюбие то и дело овладевало ею настолько, что для чувства не оставалось места. У них была некая совместная жизнь — восемь лет с первой встречи до развода, поставившего точку, немаленький промежуток времени, — и под конец, что было неизбежно, она разбила его сердце, как он разбил сердце Элизабет. Под конец она стала лучшим орудием мести, какое только могла пожелать Элизабет.