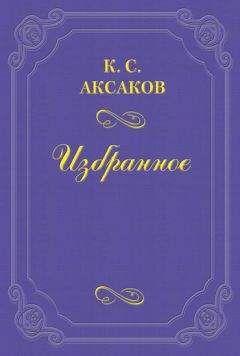Андрей Снесарев - Письма с фронта. 1914–1917
Это в кавалерии. Генюше сейчас шьют сапоги, но потрафят ли? Я приказал шить на крупного мальчика 13 лет, а данную тобой мерку только что нашли, и я ее посылаю завтра для корректирования. Твои письма (кроме 19.VI) спокойны и полны уюта, и мне иногда страшно больно, что твой розовый взор я иногда могу смутить своим темным анализом, но, детка, это вырывается невольно, и тебе я врать не хочу… врать так много приходится, да и нужно бывает: толпа не должна знать даже и той пропасти, что лежит на ее пути, пока не подошла к ней вплотную. Давай, славная, твои глазки и губки, и наших малых, я вас всех обниму, расцелую и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей.Целуй Алешу, Нюню и деток.
3 июля [1917 г. ], в поле около д. Сюлко. 159-я пех[отная] дивизия.[Рукой О. А. Зайцевой написано:
получено 30 июля, ответ 5 августа.]
Дорогие мои папа и мама!
Это письмо вам подаст шт[абс]-кап[итан] Сергеев, ком[андир] батальона в 633-м полку. Сергеев едет в Петроград для поступления в Военно-юридическую академию. Он вам порасскажет про наше житье-бытье, про наше наступление и т. п. Выпытайте его хорошенько, так как все то, что о нас вы черпаете из газет, в большинстве случаев сущий вздор. Сергеев был раньше в 64-й дивизии, и участник со мною боя 15 ноября, за который я получил Георгия III степени. Меня два-три дня тому назад поздравил Архангельский. Подвиг мой утвержден приказом армии и флоту от 15 июня. Будь добр, папа, пришли мне или текст описания моего подвига, или номер приказа. Мы получаем все это так поздно, что об этом стыдно и говорить. А мне хочется отдать в приказе по дивизии с соответствующими придатками. В конце мая и начале июня побывал в своем гнездушке и чувствую, что несколько набрался сил. Вообще, сейчас нелегко; я как высокий начальник, может быть, еще обеспечен покоем, но бедные маленькие офицеры – батал[ьонные] или ротные, – они вызывают к себе страшную жалость; большего страдания, ежеминутного унижения (матерное слово на всякое неприятное приказание) и более частого риска жизнью от своих же представить себе трудно. Когда я в свое посещение полков (или в окопах, или для уговоров) вижу эти тени боевых тружеников, жизнь которых тает, как запаленная с двух концов свечка, я близок к слезам. Порасспросите Сергеева (Мих[аил] Михайл[ович]) об этом поподробнее. Ты, папа, как-то спрашивал Женюшу, каковы мои планы на будущее? Сейчас трудно говорить о нем, когда туманен и неясен завтрашний день России. По-видимому, война сведется вничью, и с началом мира нам придется перестраивать армию заново сверху донизу или… перестать существовать как единое, цельное и сильное государство. В этом труде найдется уголок и моим, какие они есть, дарованиям. А нет, найду и другую работу, ценз у меня большой. Вообще же, не знаю. Сейчас я работаю, как часовой на посту, хотя порою волны наводнения доходят чуть ли не до шеи. Но что делать? Поста мы не имеем право бросать и не бросим. Так поступаю я сам, так внушаю своим офицерам. Физически чувствую себя хорошо – ни болей, ни страданий. Женюше пишу через день аккуратно и много. Крепко вас, мои милые и дорогие, обнимаю и целую.
Ваш любящий сын Андрей.Пишите и кланяйтесь знакомым. Что они поделывают и какова их судьба. А.
4 июля 1917 г.Дорогая женка!
Вчерашнее твое письмо от 23.VI. Скоро уже месяц, как я здесь, а в твоих письмах еще нет сведений обо мне, так волочится теперь наша милая почта. Второй день как у нас нет дождя, вчера уже просохло, а сегодня еще более сухо и уже жарко. Мне сделали маленький домик, врытый немного в землю, и мы теперь с Ник[олаем] Федоровичем блаженствуем: нет сырости, темноты и просторно. Вчера к папе с мамой выехал М. М. Сергеев, который перед отъездом имел счастье присутствовать при моем говореньи в течение более двух часов: это наш теперешний способ отдавать приказания. На первом получасе у меня как-то перехватило горло, и я думал, что не буду в состоянии продолжать, но потом полегчало, и я говорил, говорил… Еще кое-что удается благодаря личному влиянию, благодаря знанию вообще, но как это все непрочно, как шатко, как быстро может колыхнуться в любую сторону. Это такой эксперимент, который никогда не применялся раньше и нигде. Что пробуется в стране, это тоже, может быть, тяжко, но то сложно и определенному суду нескоро поддается, но опыты в армии нам ясны, как в зеркале, но наш голос не слушают.
После разговора у меня на душе был дурной осадок, и эту тяжесть я не мог сбросить до самого сна. Со сном это прошло, и хорошее утро в связи с солнечным теплым днем облегчило мое бедное сердце. Сергееву я сказал, чтобы при маме он особенно не распространялся, а папе он может говорить все полностью и сочными красками: у папы есть связи, круги, он может поговорить с влиятельными людьми, дать материал для газет, сделать, наконец, доклад в каком-либо из миллионных советов… кутить так кутить.
Твои вырезки интересны, но более с точки зрения возможности постигнуть твое личное настроение: как нервно ты берешься за небольшой просвет к лучшему, как стараешься ты уловить намеки в судьбе своей страны на какой-то благой исход и… успокоить своего муженька, который может не попасть на эти светлые горизонты.
А рядом с вырезками в письмах вечно веселый и бодрый тон: все хорошо, едим ягоду, наслаждаемся простором и простотою деревенской жизни. Дорогая моя, ненаглядная женушка, все это правильно и иначе не должно быть. Далеко разделенные, мы должны с тобой крепко держаться рука об руку, плотно прижавшись друг к другу и ободряя один другого броском веселой фразы или шутливым блеском взора. Только так и можно теперь жить среди окружающей каши и неразберихи. Сегодня тебе (или жене) пишет и Осип после моих неоднократных настояний; хотя все они (кроме Игната и Осипа еще два казака) лежат по целым дням, но пока шли дожди, они или страдали, или спали сутками, забившись под свой шалаш, а теперь с теплотой Осип, лежа на пузе, вытянул из него ряд случаев и осведомлений для тебя и жены; я только что ему надписал адрес. Сегодня я получил около 16 часов сведение, что из моей квартиры № 3 ко мне двинулись два номера 5 и 7; зачем и почему, теперь не всегда ответишь, и я начал думать, что мне с ними делать, сколько мне придется говорить и сколько много выдержит мое горло, но сейчас имею сведение, что номера где-то застопорились… может быть, еще придут, но уже с началом темноты.
Сейчас прелестный вечер, только что над нами пролетел наш аэроплан со страшной быстротою, вероятно, по ветру. Ник[олай] Федор[ович] тихонько наигрывает на гитаре. Я выскакиваю: раздаются в воздухе пулеметные выстрелы, т. е. происходит воздушный бой. Я вижу два аэроплана, которые идут в противоположные стороны, – значит, бой кончился или, по существу, авиаторы серьезно его не приняли.