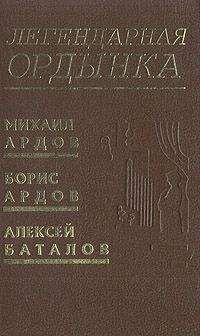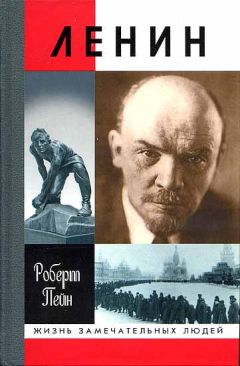Роберт Пейн - Ленин. Жизнь и смерть
Все чаще и чаще Ленину приходила мысль о необходимости контролировать руководящих товарищей. Политический контроль не работал, приказы надлежащим образом не выполнялись. Завоевав власть, Ленин все силы положил на то, чтобы создать такую систему государственного управления, которая обеспечила бы четкое и самое скорое выполнение всех издаваемых его правительством приказов. И вот этот карточный домик, построенный им с таким старанием и страстью, рассыпался у него на глазах. Правительство не умело и не могло управлять; у него еще не было головы, а конечности уже пожирала гангрена. Ленин снова выдвигает предложение расширить Центральный Комитет, довести его состав до ста членов и задействовать еще пятьсот инспекторов, которые следили бы за тем, чтобы решения Центрального Комитета выполнялись.
Эти указания, изложенные сухим, казенным языком, характерным для стилистики партийных докладов, на самом деле отражали глубокую драму в душе вождя. Он переживал моральный кризис, из которого был единственный выход — радикальные перемены в государстве. Годами он твердил о диктатуре пролетариата, прекрасно понимая, что по сути это была вооруженная диктатура кучки интеллигентов-марксистов. Доживая свои последние дни, он думал, что государство можно спасти только одним путем — вернув наконец-то власть рабочим и крестьянам. Потому он и хотел расширить Центральный Комитет; тогда рабочие и крестьяне в нем были бы в большинстве, и им помогали бы еще полтысячи членов Рабоче-крестьянской инспекции. И все же он не мог не понимать, что уже поздно. Сама природа коммунистической революции такова, что государство, ею созданное, не может быть ничем иным, как диктатурой одной личности, и как таковое обречено быть невыносимой тиранией для всех остальных.
Перебирая в уме все эти проблемы, он все больше убеждался в том, что, несмотря на все жертвы, которые принес народ, чтобы сделать коммунистическое государство реальностью, в жизни его мало что изменилось по сравнению с царским временем. В ужасе и смятении, с запоздалым чувством раскаяния он вынужден был признать, что Советское государство совершило так много ошибок, что искупить их уже нельзя.
30 декабря в продиктованном им тексте он разоблачал Сталина, Орджоникидзе и Дзержинского, каждого поименно, однако за обвинениями в их адрес подразумевалось все советское правительство. Непосредственным поводом для подобной атаки послужили ошибки Орджоникидзе в переговорах с грузинскими националистами из группы Мдивани. Дзержинский был послан в Грузию, чтобы разобраться в этом деле на месте. Вернувшись, он доложил, что «некоторые злоупотребления» действительно были допущены, но все обошлось. Политическую ответственность за «грузинский конфликт» Ленин возлагал в первую очередь на Сталина как генерального секретаря ЦК, имея в виду то, что он хотел силой заставить Грузинскую республику войти в состав СССР, хотя по конституции Союз являлся добровольным сообществом республик. Как человек, полностью признававший свою вину, Ленин просит записать такие слова:
«Я, кажется, сильно виноват перед рабочими России за то, что не вмешался достаточно энергично и достаточно резко в пресловутый вопрос об автономизации, официально называемый, кажется, вопросом о союзе советских социалистических республик.
Летом, когда этот вопрос возникал, я был болен, а затем, осенью, я возложил чрезмерные надежды на свое выздоровление и на то, что октябрьский и декабрьский пленумы дадут мне возможность вмешаться в этот вопрос. Но, между тем, ни на октябрьском пленуме (по этому вопросу), ни на декабрьском мне не удалось быть, и таким образом вопрос миновал меня почти совершенно.
Я успел только побеседовать с тов. Дзержинским, который приехал с Кавказа и рассказал мне о том, как стоит этот вопрос в Грузии. Я успел также обменяться парой слов с тов. Зиновьевым и выразить ему свои опасения по поводу этого вопроса. Из того, что сообщил тов. Дзержинский, стоявший во главе комиссии, посланной Центральным Комитетом «расследования» грузинского инцидента, я мог вынести только самые большие опасения. Если дело дошло до того, что Орджоникидзе мог зарваться до применения физического насилия, о чем мне сообщил тов. Дзержинский, то можно себе представить, в какое болото мы слетели. Видимо, вся эта затея «автономизации» в корне была неверна и несвоевременна.
Говорят, что требовалось единство аппарата. Но откуда исходили эти уверения? Не от того ли самого российского аппарата, который, как я указал уже в одном из предыдущих номеров своего дневника, заимствован нами от царизма и только чуть-чуть подмазан советским миром».
Далее он обрушивался на великодержавный шовинизм, насаждавшийся бюрократами — «подлецами и насильниками», которые испокон веков правили в России, занимая высокие государственные посты и имея чины генералов полиции. Теперь над громадным населением страны стояла горстка коммунистов, и Ленин предвидел, что «ничтожный процент советских и советизированных рабочих будет тонуть в этом море шовинистической великорусской швали, как муха в молоке». Здесь он к. месту вспоминает Держиморду, полицейского из пьесы Гоголя «Ревизор», — персонаж, ставший символом тупого насилия, — и без всякого перехода заводит речь о Сталине, который продемонстрировал «торопливость и администраторское увлечение». Судя по всему, он мысленно ставил знак равенства между этими двумя фигурами.
Это исполненное боли и досады письмо Ленин продолжал диктовать и на следующий день, 31 декабря. Он опять громил великорусский шовинизм, упрекая русских националистов в презрительном отношении к полякам, украинцам, грузинам. Для Орджоникидзе он требовал примерного наказания, а всю вину за раздувание великорусского шовинизма он возлагал на Дзержинского и Сталина. Правда, их он избавлял от наказания. Ленин считал, что национальные языки должны иметь равный статус с государственным, русским. В той же связи он говорил, что расписание поездов, например, по всей стране следовало печатать не только на русском языке, но и на всех других национальных языках.
Нелепость была в том, что главными великодержавными шовинистами в данном случае являлись совсем не русские люди по национальности. Дзержинский был поляк, а Сталин — грузин. Ленина особенно огорчали имперские проявления потому, что в тот момент он уже предвидел огромные перемены в жизни сотен миллионов людей, населявших Азию. По этому поводу он размышлял: «Было бы непростительным оппортунизмом, если бы мы накануне этого выступления Востока и в начале его пробуждения подрывали свой авторитет среди него малейшей хотя бы грубостью и несправедливостью по отношению к нашим собственным инородцам». Ленин имел основания говорить о советском империализме. В ряду прочих и этот факт был на поверхности.