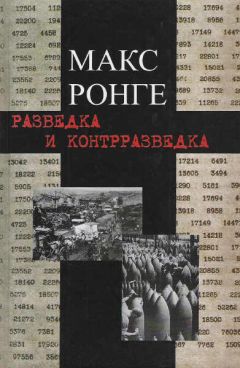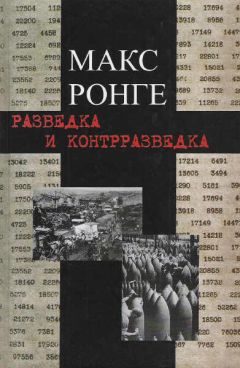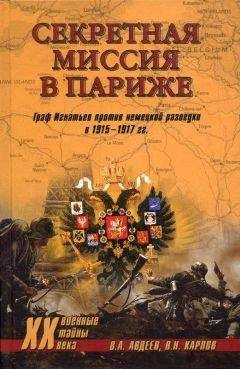Иоганн Эккерман - Разговоры с Гете в последние годы его жизни
Мне осталось только силой завоевать злополучный зал. Я велел позвать каменщика и подвел его к стене, отделявшей зал от библиотеки.
«Эта стена, друг мой, — сказал я, — вероятно, очень толстая, так как она разделяет здание на две части. Испытайте-ка ее крепость». Каменщик взялся за дело. После пяти или шести хороших ударов посыпалась штукатурка, кирпичная пыль и в проломленное отверстие стали уже видны портреты почтенных ученых в париках, которыми был украшен зал.
«Продолжайте, друг мой, — сказал я, — я еще плоховато все вижу. Не стесняйтесь, работайте, как у себя дома». Мое дружеское поощрение подействовало на каменщика, и вскоре отверстие было уже достаточно велико, чтобы сойти за дверь. Служащие библиотеки с охапками книг в руках ринулись в пролом и стали складывать книги на пол, так сказать, застолбили новое владенье. Скамьи, стулья и пюпитры мигом были удалены, а верные мои сотрудники стали действовать так быстро и споро, что через несколько дней все книги, в идеальном порядке, уже стояли на полках вдоль стен. Господа медики, вскоре вошедшие в зал через старую дверь, были положительно ошеломлены этим внезапным удивительным превращением. Не зная, что сказать, они молча ретировались, но затаили злобу против меня. Впрочем, теперь, когда я встречаюсь с ними поодиночке или принимаю их у себя за столом, они сама любезность и ведут себя как лучшие мои друзья. Когда я рассказал великому герцогу о том, как все происходило, — а происходило, разумеется, с его ведома и согласия, он очень веселился, и мы с ним впоследствии нередко хохотали над этой историей.
Гёте был в отличнейшем настроении и с радостью предавался этим воспоминаниям.
— Да, мой дорогой, — продолжал он, — м— немало я должен был исхищряться, чтобы настоять на своем. Позднее, когда из-за отчаянной сырости в библиотеке я предложил снести часть обветшавшей и давно никому не нужной городской стены, мне пришлось не лучше.
Мои просьбы, обоснования и разумные представления не находили отклика, пришлось мне снова прибегнуть к насильственным мерам. Завидев моих рабочих, приступивших к разрушению стены, господа из магистрата послали депутацию к великому герцогу, в то время находившемуся в Дорнбурге, с всеподданнейшей просьбой: своей герцогской властью приостановить мою попытку снести старую почтенную стену. Но великий герцог, который втайне одобрил и этот мой шаг, ответил им очень мудро: «Я в дела Гёте не вмешиваюсь. Он сам за себя в ответе и пусть выпутывается как знает. Подите к нему и скажите все это сами, если у вас достанет смелости!»
— Никто, впрочем, ко мне не явился, — смеясь, добавил Гёте, — стена, в той ее части, которая мне мешала, была разрушена, и я радовался, убеждаясь, что в библиотеке наконец-то стало сухо.
Среда, 17 марта 1830 г.*Вечером провел два-три часа у Гёте. По поручению великой княгини я вернул ему «Гемму из Арта» [107] и высказал об этой пьесе все то хорошее, что я о ней думал.
— Я всегда радуюсь, — заметил он, — когда появляется что-нибудь новое по замыслу и носящее на себе печать таланта.
Затем, взяв том обеими руками, он посмотрел на него сбоку и прибавил:
— Но мне не нравится, когда я вижу, что романтические писатели пишут пьесы настолько длинные, что их ни в коем случае нельзя поставить на сцене так, как они написаны. Этот недостаток отнимает половину того удовольствия, которое они могли бы мне доставить прочими своими качествами. Посмотрите-ка, сколь толстый том составляет эта «Гемма из Арта».
— Однако, — возразил я, — и Шиллер в этом отношении был немногим лучше. И все же он великий романтический писатель.
— Да, и у него был этот недостаток, — сказал Гёте. — Особенно его первые пьесы, которые он писал в полном расцвете сил своей юности, никак не могут прийти к концу. Так много было у него на сердце и так много хотел он сказать, что не был в состоянии овладеть собою. Впоследствии, когда он осознал эту ошибку, он употреблял бесконечно много усилий, чтобы преодолеть ее; однако вполне это ему никогда не удавалось. По-настоящему овладеть своим предметом, удержать себя в узде и сосредоточиться только на безусловно необходимом — дело, требующее от поэта богатырских сил; это гораздо труднее, чем обыкновенно думают.
Доложили о приходе придворного советника Римера. Я собрался было уйти, так как знал, что это был один из тех вечеров, в которые Гёте обыкновенно работает с Римером. Но Гёте просил меня остаться, на что я очень охотно согласился и благодаря чему был свидетелем беседы, в которой Гёте проявил много задора, иронии и мефистофелевского настроения.
— Вот умер Земмеринг, прожив всего какие-нибудь ничтожные семьдесят пять лет. Какие жалкие существа люди! Ведь почти никто из них не имеет смелости выдержать более продолжительную жизнь. Вот за то-то я и хвалю моего друга Бентама [108], этого высоко-радикального дурака, что он еще очень хорошо сохранился, хотя на несколько недель старше меня.
— Можно было бы добавить, — сказал я, — что он и в другом отношении похож на вас, а именно, он все еще продолжает работать с энергией юноши.
— Пусть так, — сказал Гёте, — однако мы находимся с ним на противоположных концах цепи: он хочет разрушать, а я хотел бы сохранять и строить. Быть в его возрасте таким радикалом — это верх сумасбродства.
— Я полагаю, — возразил я, — что следует различать два вида радикализма: один хочет расчистить дорогу и все разрушить, чтобы строить в будущем; другой довольствуется тем, что указывает на недостатки и ошибки государственного управления в надежде достигнуть улучшения без применения насильственных средств. Если бы вы родились в Англии, вы, конечно, были бы радикалом этого второго рода.
— Да за кого вы меня принимаете? — возразил Гёте, и в его голосе послышались нотки Мефистофеля. — Я стал бы разыскивать злоупотребления и к тому же открыто изобличать их? Я, который в Англии сам жил бы злоупотреблением. Если бы я родился в Англии, я был бы богатым герцогом или, скорее, епископом с тридцатью тысячами фунтов стерлингов годового дохода.
— Очень хорошо, — заметил я, — ну, а если бы случайно вам попался не выигрышной билет, а пустой? Ведь пустых билетов гораздо больше.
— Не каждый, конечно, создан для большого выигрыша, — заметил Гёте, — но неужели вы, дорогой мой, думаете, что я имел бы глупость вынуть пустой билет? Я прежде всего стал бы ревностным защитником тридцати девяти статей; я всеми силами и средствами боролся бы за них, в особенности за статью девятую [109], которая была бы для меня предметом совершенно исключительного внимания и самой нежной преданности. Я льстил бы и лгал бы в стихах и прозе до тех пор, пока мне не были бы обеспечены мои тридцать тысяч фунтов годового дохода. А раз достигнув этой высоты, я всеми сила ми старался бы на ней удержаться. В особенности позаботился бы я о том, чтобы сгустить, елико возможно, мрак невежества. О, как я сумел бы при случае погладить по головке добрую простоватую массу, как ловко обрабатывал бы я дорогое учащееся юношество, чтобы никто не мог заметить, чтобы никому даже и в голову не пришло, что мое блестящее существование покоится на фундаменте гнуснейших злоупотреблений!