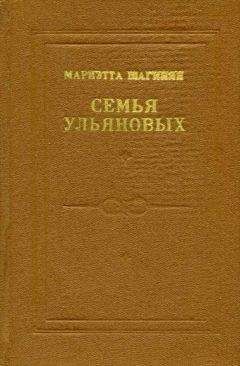Мариэтта Шагинян - Иозеф Мысливечек
Что можно еще сказать об этих портретах? По волосам судить нельзя, на пастели — несомненный парик; у Нидерхофера — пудра — по моде века. Глаза и лоб — разные. Красивый рисунок рта — почти одинаков. На резкое различие носа (в одном — почти курнос, в другом — длинный с горбинкой) могла повлиять болезнь. Нет сомнения, что из Мюнхена в Италию Мысливечек не поехал безносым; он приспособил что-нибудь искусственно заменяющее нос, — и вот почему могла появиться горбинка.
Есть ли еще какие-нибудь письменные характеристики Мысливечка, кроме слов Моцарта о его походке и внутреннем облике: «полный огня, одухотворенности и жизни… все такой же добрый, преисполненный бодрости (пробужденный) человек»?[14] Существует много косвенных свидетельств об его исключительном обаянии. Вряд ли музыканту заурядной или неприятной внешности удалось бы так заставить полюбить себя в экспансивной Италии, как это случилось с Мысливечком. В словарях говорится, что в честь его слагали сонеты; тот же автор в словаре, хмурящий брови на «нереспектабельность» Мысливечка, называет его «fascinating» — слово, очень неадекватно переводимое у нас как очаровательный, обворожительный, обаятельный, а глагол «fascinate» — как «очаровывать взглядом» (почти гипнотизировать!); и он же, к сожалению, без ссылки на источники, сообщает, что у Мысливечка были романы с двумя знаменитейшими певицами века — Лукрецией Агуйяри и Катериной Габриэлли.
Вот еще одно свидетельство, и тоже из энциклопедии, и тоже, к сожалению, анонимное, хотя и напечатанное в очень солидном издании: «В 1763 году он (Мысливечек) появился в Венеции, где, благодаря личному своему обаянию (durch eine angenehme Persönlichkeit), добился всеобщей любви и заслужил дружбу тамошнего капельмейстера Пешетти в такой высокой степени, что тот обучил милого (liebenswürdigen) богемца контрапункту бесплатно»[15]. Чтоб скупой и суховатый Пешетти, к тому времени сильно побитый жизнью, да и жить ему оставалось уже недолго, обучал кого-нибудь даром, надо было действительно «обворожить взглядом», и большего доказательства чего-то милого, привлекательного, располагающего к себе, нежели этот факт, как будто и выискивать не нужно.
И все же — наперекор фактам и письменным свидетельствам — перед глазами встает гравюра Нидерхофера во всей ее топорности и грубости, нарушающей очарование образа. Я не могла смириться с ней. Каюсь, с огромной неохотой поместила ее в первом издании своей книги. А издав, продолжала поиски.
Гравюра не оригинал портрета. Гравюра в эпоху, когда еще не было фотографий, могла лишь перенести оригинал иглою мастера или ремесленника-гравера на медь или дерево. Надо было найти рисунок, с которого она была сделана, может быть, для специального немецкого издания год спустя после смерти Мысливечка, — но где искать и найти? В итальянских архивах я не нашла и намека на существование этого оригинала.
Осенью 1967 года мне захотелось пересмотреть содержимое каталогов так называемого «Департамента музыки» Парижской национальной библиотеки. Дело в том, что рукописи Мысливечка, находящиеся в архиве Парижской консерватории, были уже более или менее известны. Французские музыковеды, заинтересовавшиеся чешским классиком, — Марк Пеншерль, Жорж де Сен-Фуа — исследовали их и о них писали. Но то, что имелось в музыкальном отделе Парижской национальной библиотеки, еще нигде как будто не упоминалось. И тут, как много, много раз в моих поисках, мне посчастливилось. Ученый консультант библиотеки, милейший русский парижанин Владимир Михайлович Федоров помог мне сделать новое открытие. В каталоге Музыкального отдела значилось:
Il Tamerlano. Fragments
Ms in 4°. Avec un portrait de Myslivececk.
Autographe.
MS 2367, a — e.
(Фрагменты из «Тамерлана»
Рукописи ин кварто. С портретом
Мысливечка. Оригинал.
№ 2367, а — е.)
Когда заказанная папка легла передо мною и мы с Федоровым раскрыли ее, на нас глянуло милое лицо с типичного для XVIII века медальонного портрета. Это был несомненный оригинал гравюры — те же черты, тот же нос с горбинкой, тот же платок на шее, прическа, поза, — те же и совсем другие?
Глаза не черные, а светлые; неподвижные зрачки, но уже не с запуганным выражением, а скорей задумчивым и пытливым; светлые, а не черные брови, почти белесые, с надбровными холмиками; светлые локоны слева и справа, удлиненная голова долихоцефала, а не обрубленная, брахицефальная, как у Нидерхофера. Изменения мельчайшие, чуть-чуть, с ничтожнейшим удлинением лица, шеи, плеч, и вместо грубо-кряжистого, ширококостного мужчины Нидерхофера — galantuomo своего века, человек несомненно высокого роста, легкий, тонкий, живой даже сквозь все условности и несхожести таких медальонных портретов. Я воспроизвожу его впервые, он нигде и никогда еще не воспроизводился. Пусть сам читатель сверит портрет и гравюру, чтоб увидеть разницу…
«Фрагменты» оперы «Тамерлан» тоже оказались автографичными. Это финал последнего акта оперы. Я видела весь оригинал «Тамерлана» там, где он сейчас находится — в Венском государственном архиве, — быть может, парижские «фрагменты» взяты из заключительной части венской рукописи.
Перейду теперь к вопросу, поставленному у меня под рубрикой «во-первых»: не мог ли тот самый, наиболее достоверный источник, из которого черпал Пельцль свои сведения, — родной брат, близнец Иозефа Мысливечка, Иоахим Мысливечек, присочинить чего-нибудь в своем рассказе, именно из любви к брату, из обожания его? Уж очень в этом рассказе Иозеф выступает каким-то пай-мальчиком, что не слишком вяжется с другими биографиями крупных музыкантов. В самом деле, послушайте только Иоахима, говорящего нам устами (вернее — пером) Пельцля: «По окончании курса философии (nach geendigter Philosophie) отец заставил обоих сыновей изучить профессию мельника. Но одновременно он их послал к профессору математики, Фердинанду Шорру, у которого они, вместе с другими разделами математики, освоили также гидравлику. После чего Иозеф изготовил гидравлическую модель, как необходимую на звание мастера, и был записан в книгу мастеров мельничного дела города Праги». Именно это место, без критики взятое Ярославом Челедой и частенько цитируемое в энциклопедиях, возбудило во мне сомнения. Закончил с братом начальную школу — пусть так; поступил с братом в иезуитский колледж, где начал слушать и прослушал философию; занимался математикой у Шорра; сделал гидравлическую модель; стал мастером мельничного дела… Нет ли в этой цепочке подсунутого, вернее, самоотверженно отданного рукою любви какого-нибудь звена, которое в глазах пражских мещан должно было почитаться как сугубо положительное?