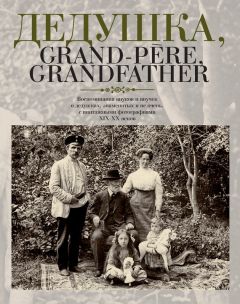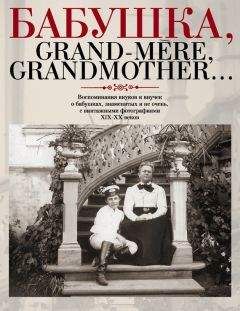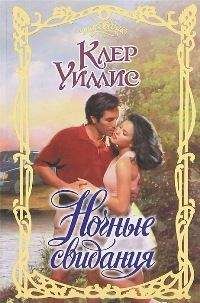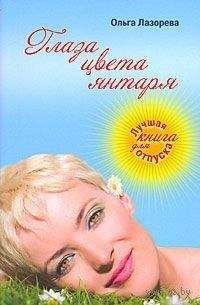Елена Лаврентьева - Дедушка, Grand-pere, Grandfather… Воспоминания внуков и внучек о дедушках, знаменитых и не очень, с винтажными фотографиями XIX – XX веков
— На гвоздике нет моей шубки.
— Прости, я не успела тебе сказать, что отдала ее детям Тани-банщицы, — ответила мама и сообщила мне историю их семьи.
— Скажи им, чтобы они любили эту шубку, — попросила я.
Позже, когда на том же гвоздике появилась маленькая вешалка с моим новым костюмчиком (кофточка горчичного цвета и юбка в желто-коричневую клетку), я стала готовить себя к неизбежному будущему: «Только бы не очень полюбить их, потому что скоро мама отдаст их Тане-банщице».
Вбитые в стену гвозди характеризуют весьма скудную обстановку дедовского дома. Несколько кроватей, столы, стулья. Во время войны, когда семья деда была в эвакуации, в доме жило мелкое немецкое командование. У них была ванна. После войны дед сделал из нее основной поливальный узел: набирал в нее холодной воды из колодца, она потом грелась на солнце и растекалась по земляным канавкам в грядки.
Но, несмотря на суровый быт, в доме умели веселиться: пели песни, плясали, шутили. У каждого был набор метких слов, прозвищ. Помню какую-то старушку с запрокинутой головой. Когда она появлялась на улице, дед Моисей шутил: «Опять прошла подлодка». Дедушка сохранял жизнелюбие и тогда, когда бабушка слегла в постель. Последние восемь лет жизни она не могла двигаться, так как у нее были сведены руки и ноги. Чтобы ее переложить, нужно было одному человеку брать ее под ноги, а другому — за спину. Дед Моисей, которому тогда было семьдесят с лишним лет, все эти годы подходил к ней каждые полтора часа, чтобы подбодрить, стереть со лба пот, подать лекарство, да и просто поговорить. Дедушка воспринимал это не как наказание или нагрузку, а как радостное служение жене. Дом всегда был полон детьми: внуками и их многочисленными друзьями, которые порой приходили только для того, чтобы посмотреть, как дед Моисей заботится об Агриппине Федоровне. В детских глазах читалась какая-то глубокая нескрываемая почтительность.
Семь лет работы в музее-усадьбе Мураново, 1978
Сердечная потребность любить не оставляла дедушку и после ухода жены. Всю свою любовь он перенес на меня. Учась в институте, я всегда приезжала к деду на каникулы. Через два дня после приезда он говорил мне: «Сядь, посиди со мной. Начну с этой минуты с тобой прощаться. Иначе после твоего отъезда у меня разорвется сердце».
Дед Моисей в последние годы жизни
В 1990 году мне посчастливилось побывать в Париже и познакомиться с эмигрантами первой волны. Среди них был «дроздовец», образованнейший Владимир Иванович Лабунский. Работая таксистом, он собрал огромную библиотеку эмигрантских изданий. Стены его небольшой двухкомнатной квартиры были увешаны фотографиями соотечественников, прошедших Гражданскую войну. Самым большим был портрет А. В. Колчака. Среди прочих раритетов — шашка. Я спросила:
— Владимир Иванович, а за что вы воевали?
Он посмотрел на меня с недоумением:
— Как за что?! За Учредительное собрание!
И тут я с предельной остротой почувствовала всю драматичность их судеб — Лабунского и моего деда Моисея, всю бессмысленность и слепоту Гражданской войны. На миг в окнах парижской квартиры показались жалкие мазанки, среди которых прошло мое детство, и выжженная солнцем степь. «Как взрослые печальны, как взрослые печальны, наверное, у них что-то случилось…»
Т. Л. Жданова
От любви до ненависти…
Написано рукой Гуго Баскервиля для сыновей Роджера и Джона, и приказываю им держать все сие в тайне от сестры их, Элизабет.
Конан Дойл «Собака Баскервилей»Если рассказывать о нашей семье, то надо начинать, конечно, с дедушки Льва Григорьевича Жданова, потому что все равно до него мы ни о ком из нашей родни практически не знаем. Кроме того, мы почти все носим фамилию, которую он взял как псевдоним, а потом уже сделал своей и нашей. Когда это произошло, точно не скажу, но отец говорил, что дед некоторое время издавал книги под именем Л. Г. Гельмана-Жданова, а потом постепенно его настоящая фамилия перестала упоминаться, и урожденный Леон Герман Гельман, сын еврея, служившего в театре суфлером, а может быть, и актером, превратился в известного русского писателя Льва Григорьевича Жданова.
Насколько я знаю, его семья вообще была театральной. В природе существовала не то дедова бабка, не то дедова тетка, бывшая то ли актрисой, то ли балериной, которая дожила до девяноста с лишним лет. Сам дед дожил тоже до весьма преклонного возраста, причем, по разным сведениям, указанным в картотеке Российской государственной библиотеки, ему могло быть на момент смерти от 88 до 96 лет. Медицинское свидетельство говорит о возрасте 88 лет, и, по-видимому, на этом надо и остановиться.
Лев Григорьевич в юности
Кстати, я помню, как пришло известие о его смерти. Мне было тогда четыре года, и я жила с дедом Мишей и мамой Женей (так я называла дедушку и бабушку со стороны матери) в Сокольниках. Мать с очередным мужем уехала жить в Алма-Ату, а отец, он практически с нами не жил никогда, перебрался к своей старшей сестре Татьяне Львовне, в честь которой меня и назвали. Мы с мамой Женей стояли на остановке и ждали трамвая, когда к нам подошла наша почтальонша тетя Вера, которую я помнила, можно сказать, с рождения, и спросила, как ей найти Льва Львовича Жданова: у нее телеграмма, где сообщается о смерти его отца. При имени ненавистного зятя, которого она до известной степени справедливо считала гнусным соблазнителем своей юной дочери, мама Женя сразу напряглась, но затем, поняв, что дело нешуточное, сказала тете Вере, чтобы она зря времени не теряла: Жданов здесь сейчас не живет и передавать телеграмму некому. Не помню, сообщила ли она об этой телеграмме и как отец узнал о смерти деда. Тем не менее у меня сохранилось смутное воспоминание, как я увидела дедушку. Помню летний день, аллею в парке, белую садовую скамейку. Я стою на этой скамейке, папа сидит рядом и говорит мне, что вот сейчас мы пойдем к дедушке, причем он явно меня уговаривает. Потом он берет меня на руки и несет по аллее, вносит в какую-то узкую и темноватую комнату. Навстречу нам, из глубины этой комнаты, на нас идет дед — маленький старик с большой белой бородой. От страха я заливаюсь мерзким ревом, и отец поспешно выносит меня из комнаты.
Все. Больше ничего не помню.
Но есть один-два документа, опираясь на них можно представить себе общую хронологию жизни деда и чуть-чуть ощутить атмосферу, в которой он существовал. Во-первых, у меня есть краткая автобиография деда, ее передал мне Дмитрий Храбровицкий, а во-вторых, сохранилось любопытное письмо, написанное деду его отцом, которое брат Лева (известный переводчик Лев Львович Жданов) разобрал и напечатал на машинке, за что ему большое спасибо.