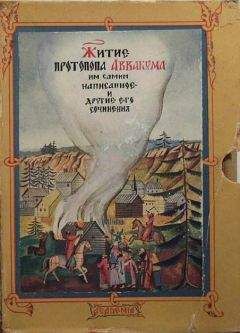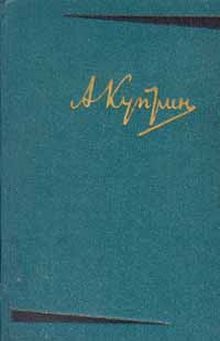Василий Маклаков - Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике. 1880–1917
– Посмотри, – говаривал он, – мы исполняем трудную работу, но нам радостно понимать, что она нужна и полезна; мы ведь видим ее результаты немедленно: скосили луг, убрали сено, вспахали и засеяли пашню и т. д. Это всем ясно. И явная польза от этой работы мирит нас с трудом и усталостью. Ну а в чем проходит работа революционных политических партий? На что уходит их время? Печатать прокламации, распространять запрещенную литературу, натравливать одних на других, прятаться от полиции, лгать на допросах… День проходит за днем в этих унижающих достоинство человека занятиях, а осязательных результатов от этой деятельности не видит никто… Они далеко впереди, да еще и очень сомнительны.
Зимой, когда уже образовалась колония, я еще раз ненадолго приехал туда. Кроме Новоселова, были там Ф.А. Козлов, доктор Рахманов, А.В. Алехин, скромный лаборант химической лаборатории, всегда покорно и молча работавший в ней, вдруг как бы сразу понявший, что все это дело – «не то», бросивший лабораторию и поступивший в колонию. Он был младшим братом известного общественного деятеля Аркадия Алехина, бывшего, кажется, курским или воронежским городским головой. Когда в 1906 году шла избирательная кампания в 1-ю Думу и я ездил по России агитировать за кадетскую партию, я там встретился с ним. В колонии были еще две подруги, окончившие Высшие женские курсы, В. Павлова и М. Черняева. Ее брат стал позднее моим лучшим другом. Но это другая эпоха, и о нем я скажу несколько слов в другом месте. Самым глубоким человеком в этой колонии был ФА. Козлов, задумчивый и молчаливый, напоминавший если не лицом, то головою Сократа; у него была своя собственная теория. Никакого справедливого общества, думал он, не может существовать, пока люди не будут иметь добрых чувств друг к другу. Поэтому нужно думать только о том, как эти чувства в людях воспитывать и развивать. Все остальное приложится. А добрые чувства слагаются из сострадания к чужому несчастью, естественного желания ему помогать, как естественен порыв поднять упавшего на улице человека, и из гораздо более сложного и трудного чувства сорадования, то есть радости от чужого счастья, противоположного более естественной «зависти». Потому и должно начать с того, что легче, то есть в себе развивать сострадание. Для этого нужно жить в той среде, где люди страдают не от случайностей вроде болезней, не от капризов и требовательности, а от несправедливости мира, который их заставляет делать то, что им лично не нужно, но для пользы других. В этих условиях живет наше крестьянство, труд которого кормит Россию; эти условия и воспитали в крестьянстве подлинные христианские чувства. Те, кого мы тогда в общежитии называли толстовцами, были часто совсем не схожи друг с другом. Общее у всех было одно. Преобладание у всех моральной точки зрения, которая определяла их вкусы, взгляды и жизнь. Из-за этого к ним причисляли Л.Н. Мореса, который в это время, как и я, приехал в колонию их навестить, не состоя ее членом. Толстовцы с ним очень дружили, как со своим человеком; но у него не было ничего общего с ними, кроме повышенного «морального чувства». Он был типичный интеллигент, кабинетный ученый, по наружному виду и образу жизни аскет, с лицом отшельника или подвижника, смотревший на всех через очки серьезными, грустными глазами. Он казался всегда несчастным, полуголодным и утомленным. Моя сестра Ольга, в 1904 году умершая сестрой милосердия на Японской войне, имела в жизни непреодолимую слабость ко всем несчастным. Увидев раз у меня Мореса, она была так потрясена его видом, что не могла успокоиться; при выдающихся литературных способностях, она была до неправдоподобия непонятлива к математике. Чтобы Моресу помочь, она добилась, что он был приглашен давать ей уроки по математике; но и он принужден был по явной бесполезности от них отказаться. Сам Морес в убогих номерах Семенова на Сретенской улице был занят писанием какого-то сочинения, которое должно было для него разрешить все вопросы о жизни. Его лозунгом было naturam sequi,[14] так как он был уверен, что природа людей хороша и на ней все можно построить. Он плохо владел языками и иногда прибегал к моей помощи, чтобы я рассказывал ему содержание того, что он сам не мог прочесть. Из этих пересказов я знаю, что он серьезно занимался теорией Мальтуса и изучал тех ученых, которые пытались его опровергать. Я переводил для него книжку Каутского «Der Einfluss der Volksvermehrung auf den Fortschritt der Gesellschaft».[15] Другой раз я должен был достать «Revue Socialists»,[16] где была статья, направленная за или против (теперь не помню) примечаний Чернышевского к «Миллю»; мне это памятно, так как я не забыл подозрительного удивления в книжных магазинах, когда я студентом спрашивал там «Revue Socialists». Наконец кто-то мне объяснил, что единственный человек, у которого этот журнал можно было найти, был В.И. Танеев, старший брат известного музыканта, бывший раньше присяжным поверенным, а теперь живший на покое, в своем доме в Обуховом переулке или имении Демьяново около Клина. Танеев эту книгу мне дал, но не на руки, а чтобы я читал у него. Это было началом личного моего с ним знакомства; с отцом он был знаком уже раньше. Потом он предложил мне составить каталог для части его библиотеки, исключительной по ценности и интересу. Но не буду больше о нем говорить, хотя это очень заметная и оригинальная фигура старой Москвы; всего не перескажешь. Да и Танеев был «уникум», ни на кого не похожим. Его старший сын женился на моей второй сестре и погиб во время отступления белых войск через Сибирь на Восток.
Но возвращаюсь к самой колонии. Я прожил в ней очень недолго и вернулся в Москву «очарованный». Иллюзии, будто они дали пример, за которым весь мир постепенно последует, у меня не было, но я видел, что то, чего жаждали эти люди, то есть найти такой образ жизни, который удовлетворял бы их «совесть», ими был действительно найден. Они все были счастливы этим. Тогда была зима, свобода от страдных сельских работ, но труда по домашнему хозяйству хватало на всех. Были заняты все, ничем не гнушаясь. Бывшие «курсистки» готовили пищу, стирали наше белье, шили и штопали. Доктора и ученые чистили выгребные ямы. Сам тщедушный Морес что-то мастерил, хотя и я, и он, как гости, были на особом положении. Все это делалось с радостью и убеждением, что за то зло, которое господствует в мире, они более не «ответственны»; то, что лично они могли сделать, чтобы в нем не участвовать, они теперь сделали. Все это было предметом горячих бесед, которые велись в колонии вечером. Была общая атмосфера какого-то всеобъемлющего «медового месяца» наступившего счастья. И это было не только мое мимолетное впечатление. Оно подверглось своеобразной проверке. Узнав от меня о колонии, моя мачеха была не прочь посмотреть ее своими глазами. Случай представился; ближайшим летом она гостила у знакомых в Тверской губернии, недалеко от колонии. Она и решилась без приглашения и предупреждения поехать туда вместе с вдовой композитора Серова, известной тогда общественной деятельницей, и Л.Е. Воронцовой, большим другом мачехи, которая тогда была очень «лево» настроена. Они там пробыли не более суток, но, по словам мачехи, были покорены тем, что увидели. Мачеха повторяла, что увидела там тургеневское «Лазурное царство».