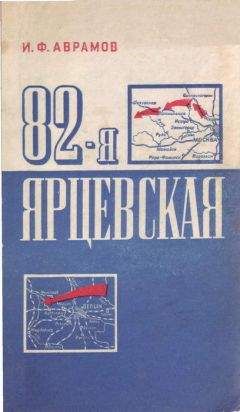Е. Орлов - Сократ. Его жизнь и философская деятельность
При всем том много еще зависело от поведения обвиняемого на суде. Искусная защита и еще более искусное воззвание к чувствам судей могли бы в значительной степени смягчить враждебное настроение последних. Пункт за пунктом разбить возводимые обвинения, подробно и красноречиво изложить свое безупречное прошлое, выставить на вид свои заслуги на войне и во время правления 30 тиранов и, что всего важнее, стараться тронуть сердца судей состраданием к его сединам и его семье, – речь такого рода, наверное, оказала бы сильное впечатление и заставила бы обвинителей умолкнуть. Сам Перикл, великий и гордый Перикл, не считал ниже своего достоинства прибегнуть к подобным приемам, когда дело шло об участи Аспазии: тем скорее мог бы решиться на это Сократ, когда вопрос шел о его собственной жизни, о благополучии его малюток и о нравственном благе его учеников. Но напрасно друзья уговаривали его к этому и даже сочиняли защитные речи: мудрец с твердостью отказывался от компромиссов, ссылаясь на то, что он всей своей жизнью готовил себе защиту. “Я человек, как и всякий другой, – говорил он своим судьям по этому поводу, – и, подобно всем смертным, состою не из камня и дерева, как выражался Гомер, а из плоти и крови, весьма чувствительных к страданиям. У меня имеется также и семья, к которой я привязан всем сердцем, – три сына, из которых один взрослый, а двое других еще малые дети. Все же я их не приведу сюда, чтобы мольбами разжалобить ваши сердца и тем добиться оправдания… Вы спросите, почему? Поверьте, что не из гордости и не из недостатка к вам уважения и ни даже оттого, что не чувствую страха перед смертью, а просто ввиду общественного мнения, которое найдет подобное поведение с моей стороны недостойным ни меня, ни вас, ни всего афинского общества. Не только для человека в моем возрасте и с моей репутацией мудреца было бы непристойно унижаться… но и вообще, просить у судьи снисхождения и тем добиться своей свободы – в высшей степени безнравственно. Ибо обязанность судьи – не дарить справедливость, а произносить приговор: он поклялся судить согласно с законами, а не со своими личными пристрастиями. Ни мы поэтому не должны поощрять в вас подобного рода слабости, ни вы сами не должны их позволить: в противном случае получится не справедливость, а богохульство… Кроме того, о афиняне, если бы я мольбою или силою убежденья заставил вас забыть свою клятву, я этим самым учил бы вас, что богов нет, и таким образом, защищаясь от нападков в неверии, обвинил бы себя сам…”
Таким образом, Сократ не только отказывается просить у судей снисхождения, но еще и заставляет их выслушивать на этот счет такие откровенности, которые вряд ли могли прийтись им по вкусу и расположить их в его пользу. Но и этого мало. Когда ему предлагают пойти на уступки и отказаться от своих убеждений и дальнейшей деятельности, Сократ гордо заявляет, что он смерти не боится: “Человек, стремящийся к идеалам, не должен думать ни о жизни, ни о смерти, а только смотреть за тем, чтобы, делая что-нибудь, он поступал честно, как подобает честному человеку”. Во-вторых же, – и это главное – его дело слишком важно, его призвание слишком высокое, чтобы от них можно было отказаться: они ниспосланы были ему самим Божеством на благо всего общества. “Я знаю, – говорит он с благородным достоинством, – я даже убежден, что ничья заслуга перед обществом не велика так, как мое повиновение велениям Божества. Я только и делаю, что хожу и убеждаю вас всех, и старого и малого, оставить всякую заботу о материальных благах и сосредоточиться преимущественно на совершенствовании своей души. Добродетель, я говорю вам, за деньги не покупается, но за нею следуют и деньги, и прочие земные блага, общественные и личные”. При таких условиях отречься от деятельности разве не было бы равносильно измене отечеству? “Каков бы ни был пост, занимаемый человеком, – избрал ли последний его сам или он был назначен на него начальством, – этот человек должен оставаться там в минуту опасности и не думать ни о смерти, ни о чем другом, кроме как о бесчестии… Как странно было бы поэтому, о афиняне, если бы я, который под Потидеей, Амфиполисом и Делием стоял на своем посту, по приказу выбранных вами полководцев, не страшась наравне с другими встретить смерть лицом к лицу, – теперь вдруг из страха перед смертью и другим подобным покинул бы свой пост, свою философскую миссию, ниспосланную мне Божеством на благо свое и других! Да, граждане, это было бы странно, и вы действительно имели бы тогда право привлечь меня к ответственности за отрицание богов, – за то, что из столь мелочных расчетов я отказался повиноваться Божеству…”
Такая постановка вопроса решает все дело: всякая уступка и сделка с совестью была бы глубоко безнравственна. Компромисс невозможен, – и “я глубоко почитаю и уважаю вас, афиняне, но я скорее стану повиноваться оракулу, нежели вам, и покуда у меня хватит сил и станет жизни, я не перестану преподавать философию и поступать, как я считаю нужным”. Этим было все сказано, – с той благородной откровенностью и пламенною глубиною чувства, на какие способны лишь люди, беззаветно верующие в бессмертную правоту своего дела. Сократово дело – общественная служба, “и, если вы меня убьете, вы не скоро найдете другого подобного мне”.
Эти заявления показались раздраженным судьям верхом самоуверенности и наглости, и большинством – 280 против 220 – голосов великий мудрец был признан виновным по обоим пунктам обвинения. Оставалось определить наказание. По афинскому закону суд в этом не имел собственного голоса, а должен был выбирать между наказанием, предлагаемым обвинителем, и тем, которое назначает себе подсудимый сам, а так как Мелит и его товарищи требовали смертной казни, то теперь очередь была за Сократом. В подобных случаях было принято, чтоб и подсудимый предложил наказание, хотя и более легкое, нежели то, на котором настаивает противная сторона, но все же достаточно серьезное, чтобы суд мог на него согласиться. В данном же случае самое благоразумное было бы предложить изгнание, – весьма суровое наказание, на котором суд, после некоторых размышлений, вероятно, остановился бы из внимания к сединам Сократа и его заслугам в прошлом. Сами друзья Сократа, ни на минуту не покидавшие его во все время процесса, настаивали, по-видимому, на этом, но мудрец упорно отказывался. Он согласен скорее умереть, нежели скитаться на старости лет по чужим странам, среди чуждой обстановки и незнакомых людей. Ему придется влачить свою жалкую жизнь под вечным страхом подобного же процесса, ибо кто может поручиться, что, продолжая свою деятельность и в изгнании, он и там не вызовет такой же ненависти, как и здесь, в Афинах? Ему опять будут угрожать процесс и смерть, и ему вновь придется бежать, чтобы начать свои приключения сызнова. К тому же, при его сознании не только своей невиновности, но даже заслуг перед обществом, как может он назначать себе наказание вообще, и еще такое суровое, как изгнание, в особенности? Не будет ли это с его стороны косвенным признанием своей виновности? “Что же, о афиняне, могу я предложить? Не то ли, что мне следует по заслугам? Я проработал всю свою жизнь, не зная устали и не заботясь ни о чем, что так занимает умы прочих людей, – ни о богатствах, ни о семье, ни о военных почестях, ни о гражданских должностях, ни о народных собраниях, ни о партиях. Что же мне следует за это? Что полагается человеку бедному, почти нищему, но общественному благодетелю, который нуждается в обеспеченном – материально – досуге, чтобы продолжать свою благотворную деятельность?” И Сократ без иронии, совершенно серьезно и искренне приходит к заключению, что ввиду великих его заслуг самой достойной для него участью было бы… содержание на общественный счет в Пританее на всю его остальную жизнь!