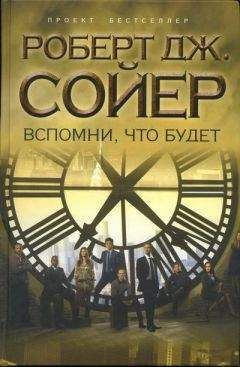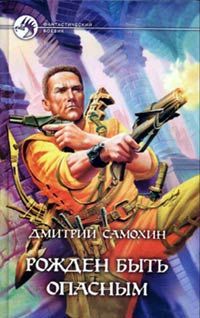Семен Резник - Мечников
Мечникову нетрудно было понять смысл этого открытия.
С тех пор как вышел в свет классический труд Бэра, накопилось много фактов из истории развития беспозвоночных, но их не удавалось объединить общей идеей. Теория разграниченности типов животного царства, освященная авторитетом Бэра, Кювье и других крупных ученых, казалась настолько незыблемой, что отдельные высказывания еретиков не могли ее подорвать.
Позднее, когда Ковалевский, Мечников и те, кто шел по их следу, доказали всеобщность теории зародышевых листков, стало ясно, что, строго говоря, такой результат можно было предвидеть заранее, исходя из эволюционного учения. Но, говоря словами Карла Максимовича Бэра, сказанными по другому поводу, «теперь, когда ход развития оказался столь простым, найдут, разумеется, что все это и так само собой ясно и вряд ли нуждается в подтверждении путем исследования. Но история Колумбова яйца повторяется ежедневно, и все дело лишь в том, чтобы поставить его стоймя».
Открытие А. О. Ковалевского перебрасывало первый мост между миром позвоночных и беспозвоночных животных. Мечников решил примкнуть к Ковалевскому, и судьба сделала все, чтобы ускорить его переезд. В Гисене остановился барон А. Ф. Стуарт, уже шапочно знакомый с Мечниковым и друг А. О. Ковалевского, Стуарт тоже держал путь в Неаполь…
9Паровозик с большущей трубой замедляет ход, обдает встречающих клубами шипящего пара. Илья Мечников вместе со Стуартом выходит на перрон. Сквозь говорливую толпу к ним пробивается Ковалевский. Он приземист, ширококост, крепок, с большой лобастой головой, вырастающей словно бы прямо из дремучей русой бороды; смотрит на приезжих широко открытыми синими глазами.
— Господин Ковалевский! — представляет Стуарт. — Господин Мечников!
Подхватив, несмотря на протесты нового знакомого, его чемодан, кликнув извозчика, Ковалевский тут же стал с жаром рассказывать, как всю зиму охотился за ланцетниками, как они подолгу жили в банках, но в непривычной обстановке ни за что не хотели откладывать икру. Быстрыми движениями они всплывали на поверхность, но тут же опять ныряли и зарывались в песок. И вот однажды, уже ночью, просматривая перед сном без особой надежды содержимое своих банок, он обнаружил в одной из них несколько оплодотворенных яиц. Затаив дыхание он просидел до утра и увидел все. Яйцо разделилось на ряд сегментов, набухло, превратилось в пузырек; одна половина пузырька углубилась в другую, зародыш стал покрываться мерцательными ресничками, закружился внутри оболочки, прорвал ее, и на поверхность всплыла маленькая личинка…
Лошадь долго тащилась по кривым улочкам, сдавленным стенами высоких домов. Громко перекрикивались с балконов женщины, развешивая длинными палками белье. Торговцы предлагали прохожим горячие макароны. Куда-то спешили бесчисленные ослики с поклажей, шмыгала неумытая детвора, уличные музыканты в отороченных бахромой шляпах крутили ручки шарманок. Неожиданно открывшееся море рыбьей чешуей поблескивало на солнце и в первую минуту ослепило Мечникова. Вдали, над едва заметным противоположным берегом залива, поднимался черный конус Везувия, вовсе не такой грозный, каким представлялся Илье, — совсем невысокая горка с ровными пологими склонами, словно бы нарисованная на листе бумаги…
Ковалевский вместе со своим другом Ножиным снимал комнату на самом берегу и уже подыскал такую же в соседнем доме для Мечникова и Стуарта.
Ковалевский был почти на пять лет старше своего нового друга. По воле родителей он три года провел в Институте путей сообщения, но карьера инженера-путейца, хоть и заманчивая ввиду перспектив разворачивавшегося в стране строительства железных дорог, его не прельстила; он бросил институт и поступил на естественное отделение Петербургского университета. Через год из-за студенческих волнений университет закрыли, и Ковалевский, не желая терять попусту время, уехал в Гейдельберг.
В Петербург он вернулся, чтобы сдать экзамены за университетский курс и защитить кандидатскую работу. Тогда-то о нем и заговорили как о восходящей звезде. Покончив с формальностями, он опять отправился за границу, в Италию, чтобы приступить к осуществлению глубоко продуманного плана исследований. Из-за его поспешного отъезда и разминулся с ним Мечников.
Зато теперь Илья видел, с каким упорством работает Ковалевский…
Каждое утро он шел к берегу, где его поджидал с рыбачьей лодкой жизнерадостный Джиованни. Рыбу Джиованни давно не ловил, предпочтя более надежный промысел: он стал поставлять животных зоологам, а зоологи в Неаполе не переводились. Зная морскую живность, как свой карман, Джиованни по беглому карандашному наброску безошибочно выискивал нужных заказчику тварей даже микроскопического размера. Ковалевскому все же казалось, что надежнее сопровождать Джиованни, и он по многу часов проводил с ним в море, все больше бронзовея лицом и открытыми по локти руками. Ланцетники ловились редко, и, чтобы добыть их в нужном количестве, Ковалевский изрядно переплачивал Джиованни, хотя деньги его давно вышли и он уже продал несколько рубах…
Кроме ланцетников Ковалевского интересовали моллюски и некоторые другие животные. Свою задачу оп видел в том, чтобы сравнивать пути развития разных групп беспозвоночных.
Рядом с ним с таким же упорством работал Николай Ножин. Он также частенько отправлялся на морскую охоту с Джиованни, а теперь в лодке бывшего рыбака отыскалось место и для Мечникова.
О Ножине Илья много слышал в Женеве от брата; знал о нигилистических крайностях в его костюме и образе мыслей, знал, как схватывался он в острых спорах с «самим» Бакуниным и как эти столкновения нередко кончались его истерическими припадками, — и все же Ножин поразил Мечникова.
Болезненный, узкогрудый, с густо блестевшими серыми глазами навыкате, он чем-то напоминал маленького испуганного зайчонка. Ножину можно было дать лет пятнадцать, не больше, хотя он был всего на год младше Ковалевского и почти на четыре года старше Мечникова.
Николай был определен в Александровский лицей, куда принимали лишь отпрысков высших сановников государства. Карьера юноше была обеспечена, и мать с отчимом сочли блажью его желание оставить лицей и поступить в университет. Он наговорил им дерзостей, обвинил в том, что они ведут постыдную жизнь, и заявил, что покажет им и всей России, как надо жить.
В Гейдельберге он и Стуарт (тоже бывший лицеист) близко сошлись с Ковалевским.
Во время занятий друзья были неразлучны, но каникулы проводили врозь — кто как мог, в зависимости от средств.