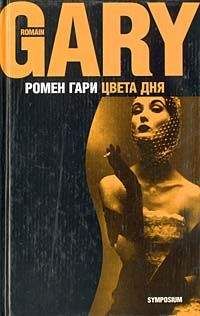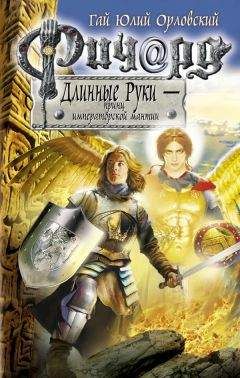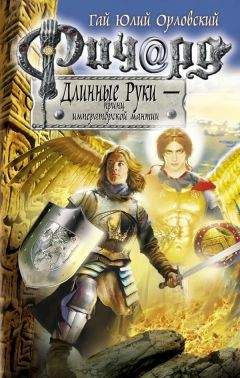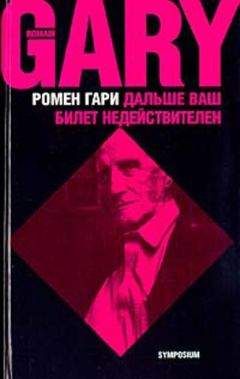Ромен Гари - Обещание на заре
Но еще труднее смириться. Сколько раз с первых же шагов своей писательской карьеры я летел, брошенный сквозь пространство с пером в руке, согнувшись пополам и вцепившись в цирковую трапецию, вверх ногами, вниз головой, стиснув зубы и напрягая мускулы, в поту чела своего, на пределе воображения и воли, на пределе самого себя, и при этом еще надо было позаботиться о стиле, создать впечатление легкости, показаться отрешенным в момент наибольшей сосредоточенности, непринужденным в момент сильнейшего раздражения, приятно улыбаться, оттягивать развязку и неизбежное падение, продолжать полет, чтобы слово «конец» не пришло раньше времени, как нехватка дыхания, отваги и таланта, и вот когда вы наконец вернулись на землю целым и невредимым, вам снова бросают трапецию, страница опять становится белой и от вас требуется начать все сначала.
Тяга к искусству, эта навязчивая погоня за шедевром, несмотря на все музеи, в которых я побывал, несмотря на все прочитанные книги и мои собственные усилия на летающей трапеции, и по сей день остается для меня тайной, столь же темной, какой она была тридцать пять лет назад, когда я, склонившись, наблюдал с крыши над вдохновенным трудом величайшего кондитера земли.
Глава XIII
В то время, как сам я приобщался к искусству с черного хода, моя мать со стороны парадного систематически пыталась обнаружить во мне какой-нибудь самородок скрытого таланта. Отвергнув поочередно скрипку и балет и выведя живопись из игры, она решила давать мне уроки пения. Лучшие мастера местной оперы были призваны к моим голосовым связкам, дабы определить, нет ли во мне задатков будущего Шаляпина, обреченного на рукоплескания толпы в потоках света, среди золота и пурпура. К моему искреннему сожалению, вынужден признать сегодня, после тридцати лет сомнений, что между мной и моими голосовыми связками произошло какое-то совершеннейшее недоразумение. У меня нет ни слуха, ни голоса. Понятия не имею, как это произошло, но факт остается фактом. У меня нет как раз того баса, который был бы мне так к лицу: по неведомой причине предназначавшийся мне голос достался вчерашнему Шаляпину и нынешнему Борису Христову[41]. Это не единственное недоразумение в моей жизни, но весьма значительное. Не могу сказать, когда именно, из-за каких зловредных махинаций произошла подмена, но что случилось, то случилось, а желающих услышать мой подлинный голос призываю купить пластинку Шаляпина. Стоит ее только послушать, особенно «Блоху»[42] Мусоргского, чтобы убедиться: это и есть я. Остается только представить меня на сцене, рычащим «ха! ха! ха! блоха!» моим басом, и я уверен, что каждый признает мою правоту. Увы, когда я, положив руку на грудь, выставив вперед ногу и высоко вскинув голову, даю волю своей вокальной мощи, исходящее из моей глотки неизменно повергает меня в изумление и грусть. Опять же, это было бы совершенно не важно, не будь у меня к тому призвания. А ведь оно у меня есть. Я этого никогда никому не говорил, даже моей матери, но к чему дольше скрывать? Подлинный Шаляпин — это я. Я великий трагический непризнанный бас и останусь таковым до конца своих дней. Помню, как во время представления «Фауста» в Метрополитен-опера в Нью-Йорке я сидел рядом с Рудольфом Бингом[43] в его директорской ложе, скрестив руки, по-мефистофельски выгнув бровь, с загадочной улыбкой на устах, пока дублер на сцене делал с моей ролью что мог, и я даже находил определенную пикантность в том, что вот тут, рядом со мной, один из крупнейших оперных импресарио мира, и он не знает. Если Бинга в тот вечер удивил мой диаволический и таинственный вид, пусть соблаговолит поискать разгадку здесь.
Моя мать была страстной поклонницей оперы и на Шаляпина молиться была готова, так что мне нет прощения. Сколько раз в свои восемь-девять лет, верно истолковав нежный и мечтательный взгляд, который она устремляла на меня, я убегал прятаться от него в свою поленницу и там, набрав побольше воздуха в грудь и приняв надлежащую позу, испускал из глубины своих недр «ха! ха! ха! блоха!», способное потрясти мир. Увы! Мой голос предпочел мне другого.
Ни одно дитя не взывало к гению вокала с большим пылом и пролив больше горючих слез, чем я. Если бы мне дали хоть один-единственный раз предстать перед матерью, с торжеством занявшей свою ложу в парижской Опере (или, поскромнее, в миланской Ла Скала), перед восхищенным партером в главной роли «Бориса Годунова», думаю, это придало бы смысл и ее жертве, и ее жизни. Не довелось. Единственный подвиг, который я смог совершить для нее, это победа на чемпионате Ниццы по пинг-понгу в 1932 году. Я выиграл чемпионат всего один раз, а потом регулярно проигрывал.
Так что уроки пения были вскоре оставлены. Один из учителей даже обозвал меня довольно коварно «вундеркиндом» — он, дескать, за всю свою карьеру ни разу не встречал ребенка, настолько лишенного слуха и таланта.
Я часто ставлю пластинку Шаляпина и с волнением слушаю свой истинный голос.
Вынужденная, таким образом, признать, что я не проявляю никакой особой расположенности к чему бы то ни было и никакого потаенного таланта, моя мать в конце концов заключила, как и столько других матерей до нее, что мне остается лишь одно: дипломатия. Едва эта мысль укоренилась в ее голове, она значительно повеселела. Тем не менее, поскольку мне всегда полагалось все самое распрекрасное в мире, я должен был стать послом Франции — меньшее ее не устраивало.
Надо сказать, что восторженная любовь моей матери к Франции меня всегда изрядно удивляла. Пусть меня правильно поймут. Я и сам всегда был большой франкофил. Но моей заслуги тут нет — я так воспитан. Попробуйте-ка послушать ребенком французские легенды среди литовских лесов; попытайтесь рассмотреть неведомую вам страну в глазах своей матери, научитесь узнавать ее в материнской улыбке и восхищенном голосе; послушайте вечером у камелька, под пенье дров и снежную тишину за окном, о Франции, про которую вам рассказывают, как про Кота в сапогах; раскройте пошире глаза перед каждой пастушкой и услышьте голоса; объявите вашим оловянным солдатикам, что с высоты пирамид на них глядят сорок веков[44]; наденьте бумажную треуголку и возьмите Бастилию, дайте миру свободу, рубя деревянной саблей чертополох и крапиву; научитесь читать по басням Лафонтена — и попытайтесь затем в зрелом возрасте от этого избавиться. Даже долгое пребывание во Франции вам не поможет.
Само собой разумеется, пришел день, когда этот возвышенно-теоретический образ Франции, увиденной из литовских лесов, больно столкнулся с бестолковой и противоречивой реальностью страны, ставшей моей; но было уже поздно, даже слишком поздно: я родился.