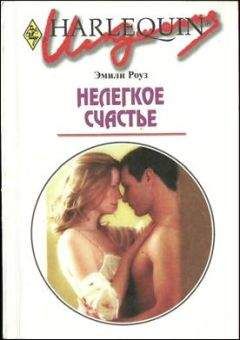Израиль Меттер - Пятый угол
Саша Белявский рассказал вам правду, Зинаида Борисовна: я поступил с Валей непорядочно.
Это я сейчас так думаю, тогда я так не думал.
Я считал тогда, что браки заключаются не в небесах, а в постели. Нынче я так же, как, вероятно, и вы, говорю молодым людям, что на смену первоначальной страсти приходит нечто большее — дружба, родство душ, взаимная ответственность. Но дай бы мне бог, Зинаида Борисовна, испытать хоть один раз наново ту ярость вражды, ту полную безответственность, которыми раскалена молодая любовь. Дай бы мне бог снова метаться в этом пламени…
В Свердловске Валя окончила музыкальный техникум — сюда она перевелась на последний курс из Харькова. По окончании она получила направление в детдом. Работа музыкального воспитателя не заинтересовала ее. При тех отношениях, которые у нас сложились, вряд ли какая-либо работа могла бы ее увлечь.
Мы не ссорились. Мне кажется, я был внимателен к ней. За несколько дней до ее приезда я с трудом отыскал женщину, которая обещала мне три раза в неделю приносить нам молоко. По тем временам это стоило больших денег. Молоко доставлялось аккуратно. Давясь от слез, Валя пила это чертово молоко. Чем виноватей я чувствовал себя перед Валей, тем усердней заботился о ней. Есть и такая форма подлости.
Вечером, когда мы ложились в постель, у Вали всегда были холодные ноги. В светлые летние ночи я видел, что она спит, приоткрыв рот. Если бы я любил ее, мне казалось бы все это трогательным. Из каких постыдных мелочей состоит отчуждение, испытываемое к человеку, с которым спишь!
Мы не ссорились. Ссора возможна, если ее причина произносима. У нас не было возможности произнести ее.
Я жил, хмелея и валясь с ног от запойной работы — по десять-двенадцать лекционных часов в день. Преподавание в параллельных группах оболванивало меня: четырежды на дню я талдычил одно и то же. К вечеру лица моих студентов неразличимо размывались передо мной от усталости, и мне чудилось, что я с утра объясняю одно и то же одному и тому же человеку. На обратном пути к дому во втуз-городок я продолжал механически производить в уме привычные действия; складывал и умножал номера домов и трамваев. И был счастлив, если получалось круглое число.
По осени аудитории комвуза внезапно опустевали: студентов, словно по тревоге, выметало на хлебозаготовки. Возвращаясь, они еще долгое время приходили в себя; в их усталых глазах медленно растворялась муть ожесточения.
В свободное от лекций время я составлял задачник для комвуза. Эта работа была поручена мне секцией научных работников нашего университета. Поручением я гордился. Я был уверен в успехе и ждал оваций своей кафедры. В бурных волнах моего тщеславия я заплывал так далеко, что мне уже мерещилась ученая степень.
На заседании нашей — кафедры, утверждавшем мой задачник, случайно присутствовал ректор. Я никогда не встречал его ранее. Из слухов, бродивших по комвузу, мне было известно, что старый большевик-ректор проштрафился в каком-то уклоне и, опальный, прислан к нам в Свердловск из Москвы.
За длинным столом расположились преподаватели. Среди них, наискосок от меня, затерялась щупленькая фигура ректора. Помню, что меня поразила его большая лохматая голова. Он сидел, склонив ее к столу.
Я бойко рассказал кафедре принцип, на котором будет построен мой задачник. Весь материал его пронизан современностью. Рост политического сознания студентов приобретет крепкую математическую базу. Для примера я привел две-три задачи на самые актуальные темы. Одной из них была оппозиция Сырцова-Ломинадзе.
Ректор тихим голосом произнес:
— Все это удивительно вульгарно и пошло.
В наступившем замешательстве кафедры я заносчиво спросил:
— Значит, вы считаете, что математика должна быть оторвана от действительности?
— Это дурацкий вопрос, — сказал ректор.
Что-то хрустнуло во мне от оскорбления и обиды. Я опустился на стул, обведя растерянными глазами своих товарищей по работе. Они молчали, не глядя на меня. И только Посмыш прислал мне через стол торопливую записку:
«Морально я с тобой!»
В тот же вечер я написал заявление на имя заведующей кафедрой с просьбой освободить меня от работы. Прочитав, она вздохнула.
— Ректор допустил бестактность.
— Грубость, — сказал я. — Хамство.
— Вам не следует так болезненно реагировать, — сказала завкафедрой. — У ректора крупные неприятности, он нервничает… Я оставлю ваше заявление у себя, но вы подумайте.
Шли годы, в течение которых мне так и не удавалось подумать. Я долго носил в душе оскорбление, нанесенное ректором. Жалость к этому старику и пронзительный стыд за себя охватили меня гораздо позднее.
В 1965 году я случайно оказался в одном доме отдыха со вдовой Ломинадзе. Когда меня познакомили с этой немолодой женщиной, у которой в результате допросов трудно поворачивалась голова, я вспомнил свою задачку, сочиненную мной тридцать пять лет назад. С помощью нескольких цифр в этой задаче доказывалось, что Ломинадзе — враг народа.
Я доказал — его расстреляли.
Жажда исповедания неутолима.
Томимые ей, мы когтим друг друга бесстыдными подробностями своей свальной вины. Покаявшись, как перед смертью, мы живем дальше, изумленно оглядываясь на культю своего прошлого.
Я знаю, что несправедлив к нему. В моей памяти повредилась оптика: минувшее фиксируется искаженно.
Я бреду назад, ставя ноги в свои собственные следы, каблук в каблук. И на полпути натыкаюсь на себя же, шагающего вперед.
Теперь мы узнаем друг друга тотчас.
Я делаю шаг в сторону, молча освобождая ему путь.
— В прошлый раз, — говорит он, — вы хотели о чем-то предупредить меня.
— Это бессмысленно. Тебе ничего не удастся изменить.
— Даже если я буду знать наперед?
— Даже.
— Ерунда, — говорит он. — Вооруженный точным знанием будущего, я бы понимал, как мне вести себя.
— И понимая, ты вел бы себя так же, как те, кто ничего не понимали. Только тебе было бы гораздо труднее.
— Но ведь это противоречит науке! — раздражается он.
— Возможно.
Он проносится мимо меня. Мне становится жаль его, я кричу ему вдогонку:
— Ты выживешь!
Письма Кати приходили в Свердловск на мой домашний адрес. Они были редки. Я написал ей, что женился, но Катя уведомила меня походя, что считает мой брак недействительным.
Она никогда не писала мне в спокойном состоянии. Дрожь ее писем передавалась и мне, как только я брал полученный конверт в руки. У меня не хватало терпения разорвать его аккуратно. И я никогда не мог охватить содержание ее письма с первого захода. Давясь ее словами, как голодный человек хлебом, я глотал их громадными ломтями, сперва различая только их приблизительный звук. Они произносились во мне голосом Кати.