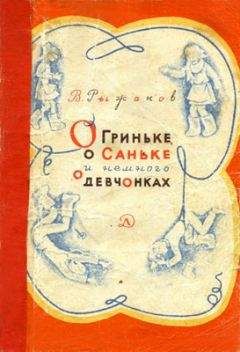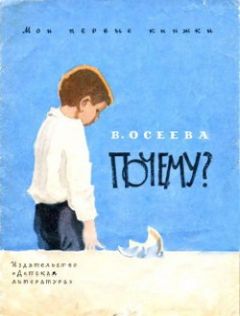Варлаам Рыжаков - Капка
У крыльца дремала запряженная в рыдван лошадь.
Из-за угла правления вышел Шурка.
- Явилась. - Повернулся, крикнул: - Ягодники, поехали!
Выпорхнули городские модницы - Алка и Галка, с кузовками. Сели на рыдван, переглянулись, захихикали.
- Чего стоишь, садись, - недовольно бросил Шурка и сердито дернул вожжи. - Все на машинах уехали, а тебя жди.
- А они?
- Им на лошади захотелось прокатиться. А тебе лучше бы на машине.
- Откуда ты знаешь, на чем мне лучше? - усаживаясь в рыдван, ответила я.
- Да уж знаю.
- Ничего ты не знаешь.
Шурка смолчал. Выехали за деревню. Въехали в рощу. Алка с Галкой заохали, завздыхали:
- Красота-то! Какой лес! Какой воздух!
А я смотрела и думала: лес как лес и воздух как воздух.
А Шурка угодливо поддакивал:
- Лес что надо. Воздух - ключевая вода.
Я спрыгнула с рыдвана. Езжай, предатель. Пешком пойду.
Предатель... Я замедлила шаг.
Что это слово прилипло ко мне? Он не предатель!
Шурка хлестнул вожжами лошадь, и рыдван, поднимая пыль, скрылся за поворотом.
Горло мое сдавила обида. Предатель...
Я остановилась.
Что это я? Он же не знает, что я сошла.
Знает.
Нет, не знает.
Знает.
Нет, не знает.
По лесу зазвенел Шуркин голос:
- Ка-па! Эге-ге-ге-е!
Я молчала.
- Ау-у-у-у!
Топот конских копыт. Грохот колес.
- Ты чего?
- Я ничего.
- Сошла чего?
- Тебе и с ними хорошо.
- Злюка. Садись.
- Не сяду.
Шурка спрыгнул, взял у меня грабли, кофту, положил на рыдван.
- Сядешь.
Сбегал на поляну, принес охапку мягкой завялой травы.
Я села.
- На что ты обиделась?
- "Лес что надо. Воздух - ключевая вода"! - передразнила я его.
Шурка засмеялся:
- А я люблю тебя.
Я на миг уставилась на него.
- Не веришь?
- Как мальчишка мальчишку?
- Нет.
Шурка встал на рыдван во весь рост, замахал вожжами, запел:
Эх, тачанка-ростовчанка,
Наша гордость и краса,
Украинская тачанка,
Все четыре колеса...
Лошадь бежала крупной рысью.
Придорожные деревья обнялись ветвями, закружились в тесном хороводе.
Закружились солнечные полянки. И все вокруг зазвенело, запело, затанцевало вместе с Шуркой.
А я какая-то обескураженная смотрела на него и ничего не понимала. Я не чувствовала радости. Хотя давно ждала, давно хотела, чтобы Шурка полюбил меня.
Шурка пел, дурачился, хохотал.
А я, растерянная и напуганная, прислушивалась к самой себе. Прислушивалась, а перед глазами всплывали то сторожка дяди Еремея, то заплаканное лицо Шуркиного отца.
После того, что я услышала и увидела в сторожке дяди Еремея, во мне что-то надломилось...
Шурка утих. Сел рядом со мной, положил на колени вожжи.
- У тебя что-то случилось?
- Нет, Шурк, ничего... Я тоже тебя люблю.
Я сказала это тихо, безразлично. Зачем сказала - не понятно. Сказала, видимо, потому, что эти слова давно были припасены для Шурки.
- Я знаю. Мне Зойка говорила.
Я уныло улыбнулась.
- Я тебя всегда буду любить. А ты?
- Я тоже.
- Давай поклянемся.
Я равнодушно ответила:
- Давай. А как?
Шурка достал из кармана перочинный нож, сделал и на своей руке царапину и на моей, смешал свою капельку крови с моей, сказал:
- Кровь за кровь. Любовь за любовь.
Я вяло повторила.
Шурка сказал:
- А ты отчаянная.
- С чего ты взял?
- Отец говорил.
Меня словно кнутом ударили. Ударили наотмашь, больно. Я соскочила с рыдвана.
- Значит, то верно? - спросил Шурка.
- Что?
- Что Еремей застрелить отца хотел?
- Врет твой отец.
- Врет?!
- Да. Все, все, все врет!
Я захлебнулась слезами и бросилась в кусты. Невеселый для меня был сенокос. Со мной произошло что-то ужасное. Я все время думала: "Зачем дядя Афанасий наврал на дядю Еремея? Зачем? Какой он плохой человек. А Шурка..."
Во время работы я украдкой наблюдала за ним, все искала в нем чего-то и не находила. Это мучило меня.
В отчаянии я кричала про себя: "Я люблю, люблю его!"
Убеждала себя, что Шурка хороший, добрый, красивый, умный, смелый. Но сердце при взгляде на него не замирало, как раньше. Оно не слушалось моего голоса.
А по вечерам мы подолгу сидели с ним на берегу озера, в котором безудержно квакали лягушки.
Я надеялась, что отчуждение пройдет. Терпеливо сидела, разговаривала и равнодушно позевывала.
Шурка сердился.
Иногда Шурка брал мою руку и весь вечер держал в своей руке. Я не отнимала руку, мне не хотелось его обижать.
Однажды Шурка сказал:
- Когда мой отец был партизаном, он прятался от немцев где-то здесь, вот у этого озера в стоге сена.
- Не говори об этом, - попросила я.
Но Шурка продолжал:
- Страшно было. Немцы искали его с собаками.
- И не нашли?
- Нет.
- Странно.
- Что?
- С собаками - и не нашли.
- Он в озере прятался. Понимаешь, под водой. Дышал через соломинку.
- А он, Шурк, не сказывал, кто партизан предал?
- Еремей. Это всем известно.
Утром я ушла из лугов. Ушла рано, все еще спали.
На повороте, у толстого огромного дуба, меня догнал Колька.
- Он обидел тебя?
Я заплакала.
- Нет, Кольк. Он не виноват.
- Я ему, знаешь... - Колька сцепил зубы.
- Не надо, Кольк, он сильнее тебя.
- Я трактором его задавлю.
Я вытерла концом шелковой косынки глаза.
Колька... Хороший мой друг Колька.
Сказала:
- Я люблю его, Кольк.
Колька оторопело заморгал ресницами.
- Неправда!
- Правда, Кольк. Правда.
Отвернулась и пошла. И Колька пошел рядышком со мной и шел до самой деревни. Шел и молчал, шел и пинал высокие придорожные стебли коневника.
У околицы остановился, достал из нагрудного кармана смятую папиросу.
Я взяла у него ее, бросила и растоптала.
- Не надо, Кольк, курить.
И мы расстались. Грустные, молча. И дома меня поджидало несчастье: у нас обвалилась печь. Старенькая она была. Кирпичи пообгорели и рухнули.
А без русской печи в деревне что без рук. Она и поит и кормит. Мы-то еще ладно, как-нибудь на хлебе с зеленым луком перебьемся, а поросенок... Он вон какой кабанище, вымахал, ему картошки ведерный чугун каждый день вари да столько же воды грей. Сухую картошку он есть не будет, пойла давай.
Пришлось у соседки, бабушки Настасьи, печку топить.
А со своей печкой не знали, что и делать.
Мама извелась вся, думаючи. К председателю ходила. Он прислал печника. Покрутился печник возле нашей печки, постукал молотком и сказал:
- "Голландка" из нее получится, а русская печь - нема. Кирпичи требуются.
Кирпичи... А где их возьмешь? Они на дороге не валяются.
Мама опять к председателю.
Он пришел к нам сам. Тоже походил вокруг печи, тоже постукал молотком, покачал головой и сказал: