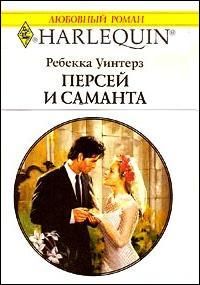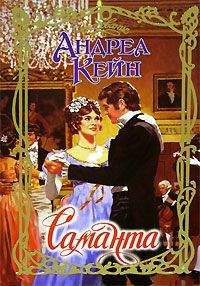Анна Герман - Анна Герман. Жизнь, рассказанная ею самой
И если бы я отправилась покорять Запад сначала своими страданиями, а йогом наигранным весельем, то ничего хорошего из этого не вышло бы. Я пела так, как пела, и если моя популярность «всего лишь» в Польше и СССР, тем хуже. Для меня и для остальных.
Хелена Майданец, уехав на гастроли в Париж, обратно не вернулась. Были разговоры о том, что она просто снялась для какого-то порножурнала, и наши чиновники решили, что певица со столь вольным поведением Польше не нужна. Но Майданец нашла себя на парижских подмостках. Хорошо это или плохо? Она счастлива в Париже, работает на телевидении и радио, выступает в знаменитых кабаре, изредка приезжает в Польшу. Хелена счастлива, значит, хорошо, неважно, нравится ли это чиновникам.
И таких певцов и певиц много, они не стали звездами первой величины на европейской или мировой сцене, не перебили славу Битлов или Эллы Фицджеральд, не собирали огромные залы, как «Абба», но жили вполне прилично.
Я могла выбрать такой же путь, могла, но не выбрала, помешала авария. А если бы не помешала? Пришлась бы я западному слушателю по вкусу со своими мелодичными песнями? Возможно, поет же Челентано, и Джо Дассен, и Далида, и многие другие, кто не похож на Битлов или «Аббу», но виноватым себя из-за этого не считает.
Тогда почему мне дороже русские песни, почему они получаются душевней и поются легче?
Наверное, все дело в моих корнях, даже не корнях, а родине. Я родилась в СССР, мои предки тоже, дома говорили на пляттдойч (южнонемецком диалекте), но вокруг я слышала русскую речь, русские песни, видела русских людей. До десяти лет я была гражданкой Советского Союза, а основы всего закладываются в детстве.
Я никогда не задумывалась о своей тяге ко всему русскому, редко об этом говорила, но теперь понимаю, что это так. И поэтому рада, что не увезла своего сыночка Збышека ни за Восток, ни на Запад, как мне предлагали, он родился в Польше, первые слова услышал на польском, видел вокруг Варшаву и варшавян. Это его родина, и лишать Збышека этой родины было бы жестоко, как бы его маму ни манили перспективы безбедной жизни в других странах.
Я ничуть не виню свою маму в том, что она увезла меня из родных мест, у нее просто не было выбора, слишком трудными и ненадежными оказались годы моего собственного детства, слишком много оказалось внешних обстоятельств, которые она могла изменить, только уехав из страны. Мама спасала прежде всего меня, причем делала это как могла и как получалось.
Детство, которого не было
Я из поколения, у которого не было детства.
Это вина взрослых, развязавших войну и тем укравших у нас счастливое детство.
Детские годы большинства моих ровесников изуродованы войной, те, кто родился в середине тридцатых и позже, просто не могли иметь нормальных праздников с веселыми играми и нарядными платьицами. Когда началась война, мне только исполнилось пять лет, но и до того спокойной и обеспеченной жизни тоже не было. Я не жалуюсь, жизнь вообще научила не жаловаться, тем более не предъявлять к ней претензий.
Сколько себя помню, всегда пела. Нет, не забиралась на стул перед гостями, не исполняла по их просьбе какой-нибудь взрослый шлягер, умиляя родню, не устраивала концерты для соседей, пела тихонько и для себя. Во-первых, у меня просто не было такой жизни, когда гости по выходным или многолетние соседи, радостно аплодирующие самозваной певице с бантиком в волосах; во-вторых, в детстве я сильно косила, к тому же всегда отличалась высоким ростом, что вызывало множество насмешек; в-третьих, все мое детство мама и бабушка старались жить как можно незаметней, на это были свои жестокие причины. Не следовало никоим образом привлекать к себе внимание ни голосом, ни какими-то выступлениями.
Отца я просто не помню, потому что его забрали, когда мне едва исполнилось полтора года, у нас вообще не было с ним прощания, мама увезла меня в больницу в Ташкент, а пану арестовали в ее отсутствие. Папу и маминого брата Вильмара. Отца расстреляли, а дядя Вильмар погиб в лагере. О папиной судьбе мы точно не знали до недавнего времени, а маминого брата мама с ее сестрой Тертой даже нашли в колонии, но его вскоре перевели в другую на север, где Вильмар и умер от туберкулеза.
Бесконечные переезды, попытки буквально спрятаться в мышиные норки, жить в дальних кишлаках, в небольших селах, только чтобы не заметили, не вспомнили, не арестовали — такими я запомнила военные годы. Когда маму увозили в Трудармию на строительство дороги, а я оставалась просто у хорошей, доброй женщины, мне не было и семи лет, я спела ей на прощание жалостливую песню: «Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда…». Я хотела показать маме, что могу петь, а вышло только хуже, она рыдала так, что я сама едва не бросилась под колеса повозки.
Это неправда, что в благословенном Узбекистане во время войны не было голода, был, и еще какой. Конечно, не такой, как в блокадном Ленинграде, меня всегда поражало мужество людей, перенесших этот кошмар, но все же был. И в благословенном Узбекистане не проживешь на одних фруктах, а чтобы купить хлеб, нужно работать, но работа для жены и дочери врага народа, то есть для мамы, не всегда была. Если бы не добрые люди, помогавшие нам, едва ли мы смогли бы выжить.
Я не жалуюсь, просто объясняю, что ни возможности, ни поводов для песен у меня просто не имелось. Но я все равно пела, тихонько, стараясь как можно старательней выводить мелодию.
Это семейное, прекрасно пел отец, пела и мама, были музыкально одаренными родственники с обоих сторон.
У нас с мамой у каждой по-своему сломаны судьбы. Но если виновник моей трагедии известен, это водитель «Фиата», заснувший за рулем на скорости свыше ста пятидесяти километров в час, то в маминой трагедии виновата система. И я не уверена, имею ли право рассказывать обо всем подробно, ведь это означает раскрыть и ее тайны, говорить о которых мама вовсе не желала бы.
Думаю, о многом получится умолчать, и к тому времени, когда Збышек-маленький вырастет и сможет прочесть мои каракули, моя мама сама расскажет внуку все, что сочтет нужным, и в том виде, в каком пожелает сама. Это ее право — скрывать, изменять что-то, о чем-то умалчивать.
Но есть кое-что, что я хочу донести до Збышека. Мы даже со Збышеком-старшим не обо всем говорили, не потому, что хотелось что-то скрыть от любимого человека, у меня не было от него секретов, просто в биографии существуют больные точки, касаться которых очень непросто.
К числу таких относятся мои детские годы и вообще вся моя родословная.
В этом нет моей вины, думаю, и моих родных тоже, виновата та самая система.