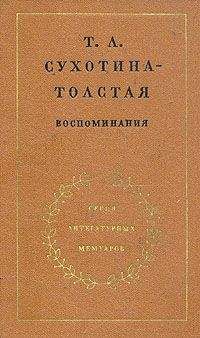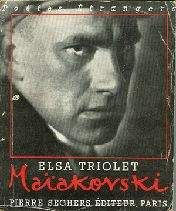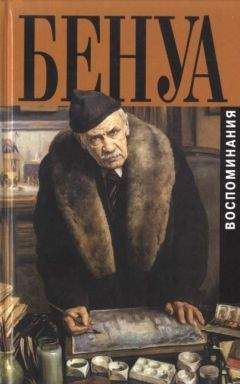Сергей Лифарь - С Дягилевым
В соответствии с различием темпераментов трёх матросов и вариации отличались разным характером. Моя вариация была самой лиричной и певучей, и только в неё Мясин внес чисто классические па, что её очень выделяло. Характерны были для моей роли пируэты на attitude с одной рукой, выброшенной вверх, и другой, поддерживающей колено поднятой ноги; после четырех пируэтов en dedans [во внутрь – фр.] я должен был перейти на поднятую до этого на воздух ногу. В вариациях других двух матросов (Войцеховского и Славинского) преобладала чечетка. Очень интересны были прыжки Славинского: он делал на одной ноге по диагонали шестнадцать прыжков в горизонтальном положении, держа неподвижно одну ногу на арабеске и прижимая к своему телу согнутую другую ногу, на которой прыгал... Декорации, красные с белым и чёрным, и костюмы балета, исполненные испанским художником Прюной, гармонировали своей свежестью и радостностью с общим настроением балета, и, когда подымался занавес и на сцене появлялись три молодца-матроса, весь зал уже улыбался. На премьере «Matelots» произошла замечательная история, когда мы, трое матросов, танцевали общий номер на стульях. Первым выходит Войцеховский, вторым Славинский, третьим я. Я приклеиваю за кулисами усики, хочу взять стул... В это время Войцеховский трогает свой стул, быстро меняется стульями со Славинским, который, в свою очередь, берет мой стул и передает мне стул Войцеховского. Я беру его и с ужасом вижу, что он совсем расшатан. Мы начинаем наш танец — я теряю сперва сидение стула, потом ножку... Я прыгаю на стуле без ножки, теряю вторую ножку; остается спинка, обруч и две ножки... Я напрягаю силы, весело, веселее, чем полагается по роли, прыгаю на стул, каким-то чудом удерживаю равновесие, потом сажусь, и тут, с последним аккордом нашей вариации, стул с резким скрипом ломается, и при бешеных аплодисментах я лечу на пол.
20 июня состоялся наш последний спектакль в Париже — последний грустный спектакль Долина (шли «Les Facheux», «Зефир и Флора», «Matelots» и «Train Bleu»); Долин со слезами на глазах танцует в последний раз в Русском балете Дягилева. Мы уезжаем в Лондон, я прощаюсь со своим соперником: мы расстаемся друзьями, и в наших отношениях нет и тени какого-нибудь скрытого завистничества или недоброжелательства.
20 июня возобновился наш большой лондонский сезон; в этой второй половине сезона балетное руководство принадлежало уже мне, и меня забрасывали цветами, подарками, фруктами, письмами, почти после каждого парадного спектакля я получал от Дягилева венок. Сезон проходил блестяще и торжественно. 7 июня в Лондонском мюзик-клубе был устроен приём Дягилева и членов Русского балета. Сергей Павлович очень волновался перед этим приёмом: увлекающийся и увлекающий собеседник вдвоём или втроём, Дягилев терялся на званых обедах и вечерах, часто просиживал в угрюмом молчании и за весь обед не раскрывал рта. На этот раз торжественный приём сошел прекрасно: Сергей Павлович долго готовился к своей речи (о русском балете и отчасти обо всем русском искусстве), сказал её очень хорошо и произвёл на всех большое впечатление; в самом начале речи он набросился на дурной вкус англичан и говорил, что англичане ничего не понимают в балете. 2 июля Дягилев дал гала в отеле «Сесиль» в пользу Русского Красного Креста — наш новый триумф.
Балет «Le Mariage d'Aurore» закончил большой и счастливый лондонский сезон, 2 августа труппе был объявлен двухмесячный отпуск,— в книге моей жизни перевернулась новая страница.
III
Из Лондона мы отправились в Италию. Началась моя тесная совместная жизнь с Дягилевым — конец ей положен был смертью Сергея Павловича. За эти долгие, такие непохожие друг на друга — то светлые, радостные, то тревожные, тяжёлые, порой мучительные — четыре года жизни с Дягилевым, с великим человеком, образ его — во всей его сложности и жизненной изменяемости — вошёл в меня и запечатлелся во мне на всю жизнь, стал и останется навсегда главной опорой моего существования и, я бы сказал, частью меня, частью моей души и моего существования, чем-то неотделимым от меня, о чем трудно говорить.
Да и как рассказать этот образ, слагавшийся из неуловимых, мелькающих мелочей, повседневных пустяков, незначительных слов, незначительных фактов, жестов, едва заметных движений мускулов лица и рук?
Как и всегда при очень большой близости, при настоящей интимности, долгие разговоры, высказывания, исповеди были только в начале сближения: только в начале общего пути люди рассказывают себя друг другу, узнают друг друга,— чем дальше, тем больше они приучаются говорить не словами, а полусловами, понимают друг друга с намёков и полунамёков и кончают тем, что, переставая высказывать себя, переставая чувствовать потребность в таком самовысказывании, в такой исповеди... перестают понимать друг друга и каждый начинает жить в своей раковине. Таков жестокий закон: всякая дружба, всякая самая большая интимность, превращаясь в домашние отношения, в прочные душевные связи, своею неразрывностью иногда подозрительно напоминающие цепи, которыми связаны друг с другом каторжники, ведут к отдалению, а значит, и к охлаждению живого, прекрасного и волнующего трепета. Между домашними не бывает настоящих разговоров о дне души; нелепо говорить домашнему о своих взглядах и убеждениях, и близкий, домашний человек часто больше узнаёт от присутствия при разговорах с чужими и слушает иногда эти разговоры-высказывания не совсем доверчиво, как рисовку, как аффектацию... Вот почему воспоминания домашних великого человека — жены, брата, сестры — бывают в громадном большинстве случаев такие бледные, неинтересные,— не только потому, что они не умеют отличать важное от неважного, существенное от несущественного, переплетающихся и сплетающихся в жизни, но часто и потому, что им нечего рассказывать, что они знают повседневную практическую жизнь, жизнь мелочей, и не знают всего богатого внутреннего мира великого человека; вот почему воспоминания жены мало чем отличаются от воспоминаний экономки: и той и другой открыта одна и та же будничная, мелочная, домашняя жизнь великого человека. Если этот закон «домашней» жизни верен вообще, то насколько он приложим к Дягилеву, который боялся всякой аффектации и приучил и меня бояться её и избегать,— да Дягилев и не нуждался в высказывании себя, хотя и любил «разговорушки»,— он мог любить другого, чувствовать его и понимать без словесных излияний. К концу моей совместной жизни с Дягилевым я начинал отходить от него: ему достаточно было любить меня, знать, что рядом с ним живёт близкий ему человек, мне, в мои двадцать два — двадцать три года, этого было мало, мне необходимо было делиться с ним своими переживаниями, как необходимо было, чтобы и он делился тем, что происходит в нём, чем живёт он. И оттого что между нами происходили всё реже и реже такие рассказы души, мне казалось, что мы все дальше и дальше уходили друг от друга. Мы и действительно уходили, но, кроме указанной причины — закона дружбы, действовали и другие причины, о которых я сейчас не говорю, чтобы слишком не забегать вперед и не предупреждать событий.