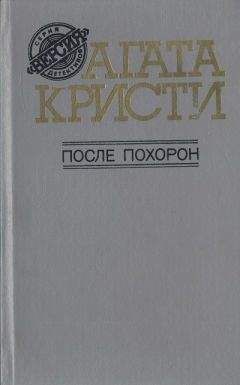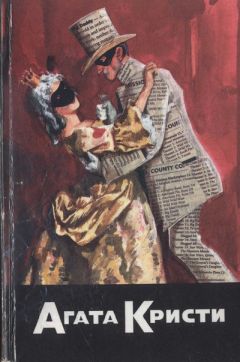Владимир Набоков - Временное правительство и большевистский переворот
Но это все касается второго периода деятельности Коновалова. В первом составе Вр. Правительства я не помню, чтобы он играл заметную роль. Чаще всего, мне кажется, он жаловался; жаловался на то, что Вр. Правительство не в достаточной степени занято разрухой промышленности, растущей не по дням, а по часам, — разрухой, в виду безмерно растущих требований рабочих. Красноречивым он никогда не был, он говорил чрезвычайно просто и искренно, так сказать, бесхитростно, но мне кажется, что раньше всего в его обращениях к Вр. Правительству зазвучали панические ноты. И в частных разговорах он нередко обращался к этим темам, словно искал одобрения и нравственной помощи. Для меня представляется неразрешимой загадкой, как мог А. И. Коновалов пойти вторично во Вр. Правительство, с его председателем Керенским. По-видимому, он счел долгом патриотизма не отказываться и думал, что до Учредительного Собрания удастся дотянуть. Этот мираж — Учредительное Собрание — во многих умах тогда возбуждал совершенно непостижимые надежды. Но о значении идеи Учредит. Собрания в деятельности Вр. Правительства я буду говорить особо.
В последний раз я виделся с А. И. Коноваловым при трагических обстоятельствах, в день свержения Вр. Правительства, 26 октября. Об этом дне мне также придется говорить в своем месте.
До сих пор я касался характеристики и роли во Временном Правительстве тех лиц, которые не являлись моими партийными единомышленниками. С некоторыми из них я в этой обстановке познакомился впервые. Теперь мне остается сказать о четырех министрах-кадетах: Милюкове, Шингареве, Некрасове, Мануилове, которых я знал давно, хотя личная близость у меня была только с Милюковым.
Меньше всего я знал Мануилова. Это, конечно, объясняется тем, что Мануилов — москвич, в заседаниях Центр. Комитета он никогда не принимал особенно деятельного участия, а вне этих заседаний я почти с ним не встречался. Должен сказать, что и за два месяца моего участия в делах Вр. Правительства Мануилов все время оставался в тени. Он очень редко, почти никогда не принимал участия в страстных политических прениях, происходивших в закрытых заседаниях. Я припоминаю, что по отношению к основной контроверзе, возникшей в первый же месяц, — по вопросу внешней политики, отношения к целям войны, — Мануилов очень вяло поддерживал Милюкова, — я бы сказал даже, что фактической поддержки вовсе и не было. С другой стороны, Мануилов как-то скорее других проникся безнадежностью в отношении деятельности Вр. Правительства вообще и чаще и раньше других говорил о необходимости ухода Вр. Правительства, ввиду невозможных условий работы, создаваемых контролем и постоянной помехой со стороны Совета рабочих депутатов. Специальная его деятельность в качестве министра народного просвещения не отличалась той авторитетностью, которой можно было от него ожидать. Очень возможно, что это была не его вина, — не вина его личных качеств. При других, более нормальных условиях, эти качества сделали бы из него образцового министра просвещения, так как не может быть сомнения ни в его широких взглядах, ни в его больших знаниях, ни в общих положительных сторонах его как политика и администратора. Но по существу, он не был боевой натурой, борцом. Он и раньше главным методом борьбы избирал — подачу в отставку. Это, может быть, было правильно при Кассо, но здесь, в данный момент, требовалось что-то другое. Мануилов, быть может, оказался бы вполне подходящим на посту министра земледелия; хотя мне представляется, что он вообще не подходил, по своему темпераменту, по настроению, к данному революционному моменту. Он не импонировал никому. И вместе с тем, его уравновешенной натуре духовного европейца глубоко претила та атмосфера безудержного демагогического радикализма, в которой орудовали всякие Чарнолусские. Помню его отчаяние во время учительского съезда. Именно в области народного просвещения зловещие стороны нашего радикализма-якобинства выразились особенно рельефно и, если в конце концов эта область получила в качестве руководителя г. Луначарского, то здесь скорее всего можно сказать: tu l'as voulu, Georges Dandin. Среди других министров Мануилов имел исключительно «дурную прессу». На него нападали и справа, и слева: справа — за бездеятельность и апатию перед растущей революционной волной, за реформу орфографии (в которой он, как известно, был ни при чем: это безобразие лежит на совести Академии наук). Слева его обвиняли в бюрократизме, в сохранении канцелярской рутины, в призыве деятелей старого режима. Особенное раздражение вызвало назначение Герасимова. Мануилов не умел отбиваться и огрызаться. Он приходил в уныние и отчаяние. В сущности говоря, он, быть может, был вполне прав, признавая положение безнадежным. Но и в этом случае ему следовало действовать иначе: решительнее, я бы сказал, демонстративнее. При всех своих достоинствах он остался какой-то тусклой фигурой, и если все приветствовали его назначение, то уход его и замена С. Ф. Ольденбургом не только не вызвали ни с чьей стороны сожаления, но даже в симпатизирующих ему кругах оценивались скорее положительно, чем отрицательно.
Труднее всего мне говорить о Некрасове. Я уже упоминал, в начале моих записок, что вследствие моего продолжительного отсутствия в Центр. Комитете я был очень плохо осведомлен насчет создавшихся там (и в Госуд. Думе) личных взаимоотношений. Только значительно позднее моего вступления в должность управляющего делами Вр. Правительства я имел беседу с А. И. Шингаревым, который раскрыл мне глаза. Он рассказал мне про ту «подземную войну», которую издавна вел Некрасов против Милюкова. Я тогда только понял многое в поведении Некрасова, которого я до того, по старой памяти, считал одним из самых преданных Милюкову друзей. Но все-таки для меня оставалось неясным, к чему стремится Некрасов. Однако с каждым днем все яснее обозначался уклон Некрасова в сторону социалистов, приближение его к Керенскому, на которого он приобретал все большее и большее влияние и с которым все чаще и чаще пел в унисон. Я все-таки недостаточно близко знаю Некрасова, чтобы с уверенностью судить о нем, но я боюсь, что в течение своего пребывания у власти он прежде всего, больше всего руководим был побуждениями честолюбия. Он стремился играть первую роль, — и он достиг цели, но лишь для того, чтобы вдохновить постыдное поведение Керенского в деле Корнилова и затем сойти со сцены с поврежденной политической репутацией, оставленный всеми прежними друзьями (даже таким преданным и близким, как И. П. Демидов), с кличкой «злого гения русской революции». А между тем Некрасов, по моему глубокому убеждению, один из немногих крупных людей, выдвинувшихся на политической арене за последние годы. У него огромные деловые способности, умение ориентироваться, широкий кругозор, практическая сметка. Человек умный, хитрый, красноречивый, он умеет казаться искренним и простодушным, когда это нужно. Но очевидно, этические его свойства (говорю, разумеется, не о личных, а об общественно-политических) не находятся на высоте его интеллектуальных качеств. Я охотно верю, что в конце концов он стремился к победе тех идей, которые объединяли его с товарищами по партии. Но для этого он избрал путь необычайно извилистый и в конце концов зашел в тупик. Мне представляется, что в данный момент (1918 год) он должен быть одним из несчастнейших людей и что его политическая карьера завершилась окончательно. Доверия он ни в ком больше не вызовет, а доверие есть как-никак абсолютно необходимое условие для политического деятеля. Раз проявленная двуличность — никогда не забывается. Некрасов оставил именно впечатление двуличности, — маски, скрывающей подлинное лицо. И это особенно чувствуется потому, что все его внешние приемы подкупают своим видимым добродушием. «Faux bonhomme» — как выражаются метко французы — пожалуй, самая неприятная разновидность человека вообще, политического деятеля в частности.