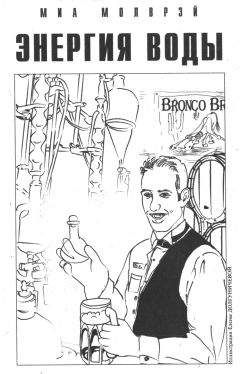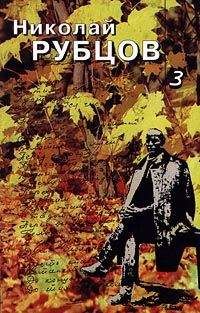Николай Рубцов - Последняя осень. Стихотворения, письма, воспоминания современников
Было много споров, много разговоров; и неясного, смутного хватало. Вот почему дорожили мы каждой возможностью вырваться на занятия литературного объединения. Вырывались не только ради занятий, подчас довольно бледных… Главное начиналось после — когда, разбившись на группки, бродили мы по улицам Североморска или уходили в сопки, подальше от начальства и несговорчивых патрулей. Тут уж доставало и споров, и суждений!
«Железные люди с железными нервами» тоже подчас давали слабинку. Помню, флотская газета напечатала подборку стихов Вити К. С портретом автора — молодцеватого старшины второй статьи, — с теплым напутствием. Такие подборки были традицией, почти все члены литобъединения прошли через эту купель, через этот обряд крещения. Витя, человек неуступчивый и сверх меры самолюбивый, на радостях «заложил за воротник» и, уличенный в непозволительном проступке, надерзил начальству. Его, естественно, наказали, «зарубив берег», то есть надолго лишив увольнений. А когда праведной службой добился он прощения — пришел к нам с надрывной жалобой:
— Обрыдло все!
— Что — все?
— Да все на свете! И чертовы эти сопки, похожие на сухари, и окаянное море.
— Море-то при чем? — спросил я, изрядно обиженный на бравого старшину: моими стараниями его подборка увидела свет, мне же первому и нагорело за его грехи.
— А при том! — взъярился Виктор. — Куда ни глянь — каждая вещь с казенным клеймом. Подушка, на которой сплю, одеяло, которым укрываюсь, простыня. На полотенце клеймо, на робе, на бескозырке! И сами клейменые, словно каторжные.
Зло сплюнув, он отвернулся и пошел вниз по улице Сафонова, самой в те времена красивой — парадной — улице. А мы стояли на широких ступенях Дома офицеров, в одном из зальчиков которого только что отзанимались литобъединенцы, и растерянно смотрели ему вслед. Хоть бы руку, что ли, подал на прощание!
— Виктор! — позвал я негромко.
— Не надо, — тронул меня за рукав Рубцов. — Не стоит.
— Нелепо все, глупо, — возразил я. — Надо догнать.
— Не стоит, — повторил Коля. И, нахмурив лоб, после паузы выговорил с сожалением: — Не будет из него поэта. Только себя и видит, и никого вокруг больше.
Рубцов оказался прав в своем пророчестве. Вот уже и десятилетия минули с того момента, как простились мы с флотом, а Виктора в литературе — с поэзией ли, с прозой — так и не встретил я ни разу.
Вспоминая не единожды эту картинку, снова и снова прокручивая ее в воображении, я думал: вот Рубцов-то как раз всю жизнь спал на клейменых подушках и укрывался одеялом с казенным клеймом. В детдоме, на флоте, в общежитии Литературного института. Вот он-то как раз больше, чем кто-либо другой, имел право сказать, что все ему обрыдло.
Ан нет, и намеком не обмолвился!
Еще штрих — и к портрету поколения, и к портрету Рубцова.
Зашел разговор о событиях в Египте: по времени пришлись они на осень пятьдесят шестого года. Арабам империалисты не могли простить национализации Суэцкого канала: против Египта с ходу развязал войну Израиль, на стороне Тель-Авива немедленно выступили англичане и французы.
По флоту была объявлена повышенная готовность: тревоги играли поминутно, спали мы не раздеваясь, да и громко это сказано — спали. Счастлив уже, коли вырубишься на полчаса — до очередной сирены.
Мир, казалось, висел на волоске. Вот-вот полыхнет она, третья мировая…
Все, к счастью, обошлось. Прежде всего потому, втолковывали нам, что твердую и непреклонную позицию занял Советский Союз.
Так вот, вспоминая те дни, Рубцов обмолвился, что писал заявление с просьбой отправить его в Египет в составе интернациональной бригады. На помощь страдающему народу.
Мы бредили интербригадами, нам не терпелось взять оружие в руки. Из уст в уста передавали, что на одной «тридцатке-бис» (модель эсминца) подобные заявления написали сто тридцать матросов и четыре офицера.
— Ну и что у тебя вышло? — спросил я с сочувствием.
— Толку не вышло, — ответил он. — Вызвал «святой отец» и прочитал «проповедь». Тем и кончилось!
«Святой отец», так мы называли заместителя командира корабля по политчасти, вызвал и меня. По такому же точно поводу. И сказал, что кандидату в партию, молодому коммунисту, надлежит удерживать матросов от искренних, но неумеренных порывов, а не подогревать всякие там настроения.
— Все понял? — поинтересовался зам. под занавес. На флоте не принято отвечать «нет».
— Так точно, понял! — гаркнул я и вышел за дверь, не столько потрясенный, сколько раздавленный тем, что наш интернационализм подрублен под корень.
Есенин
К Есенину у Рубцова отношение особое. «…Невозможно забыть мне ничего, что касается Есенина», — однажды напишет он мне. Но это будет позже, в пятьдесят девятом, когда мы всерьез начнем искать следы пребывания Сергея Александровича в Мурманске.
Что я знал тогда о Есенине? Что мы все знали о нем?
Теперь вот думаю, что имя Есенина в памяти народа хранилось всегда. Как и великое имя Пушкина. Роились вокруг этого имени легенды, домыслы, преувеличения, но в каждой побасенке, в каждом расхожем анекдоте явственно слышалась всечеловеческая симпатия к большому и незаслуженно обиженному после смерти поэту. Обиженному тридцатилетним забвением.
Помню, районный судья Петр Егорович Сухов за кружкой пива в предбаннике рассказывал мужикам, как после гражданской войны служил он в Константинове участковым милиционером. И как Есенин, приехав к матери, в загуле перебил стекла в теткином доме. Сухов, по долгу службы и не без помощи местных мужиков, связал буяна. «Развяжи!» — потребовал поэт, отоспавшись. И, освобожденный от уз, надавал блюстителю порядка звонких пощечин. Меня, мальчишку, поразило, что об этих пощечинах судья вспомнил как о почетной награде.
Знание о поэте, пусть и искаженное, неверное, приходило к нам раньше его стихов.
Правда, мне повезло. Логику в средней школе преподавал нам Владимир Васильевич Аббакумов. Фронтовик, потерявший на войне ноги, юрист по образованию, он страстно любил поэзию. Прознав, что я пишу стихи, пригласил меня домой. И мне, единственному слушателю, часа три кряду читал Есенина наизусть. А потом под честное слово одолжил «до завтра» прижизненный томик поэта. Я спрятал книжицу в карман куртки и вылетел на улицу, забыв попрощаться: боялся, что учитель передумает, отберет Есенина назад. Весь вечер и всю ночь напролет при скудном свете лампы-семилинейки я переписывал стихи в тетрадь. Весь том, до заключительной точки… А после, к великому удовольствию однокашников и неудовольствию школьного начальства, читал Есенина на вечерах. Уходя на службу, взял тетрадь с собой.