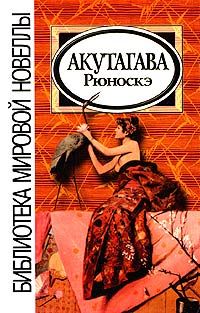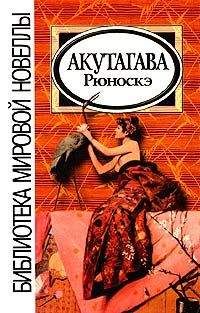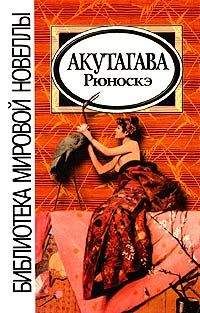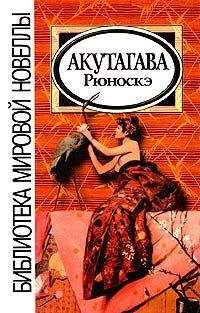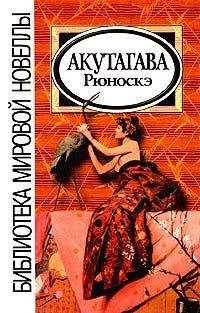Чтоб услыхал хоть один человек - Акутагава Рюноскэ
Однако независимо от того, как их будут называть, и в будущем, несомненно, появятся писатели, которых мы сейчас причисляем к «неосенсуалистам».
Ещё лет десять назад, осмотрев вместе с Кумэ Macao выставку общества «Содося» [36], я услыхал, помню, его восторженные слова: «Удивительно, как кипарисник в этом саду напоминает картины художников из общества «Содося». Критерием для него служил тот же самый «неосенсуализм» десятилетней давности. То, что я жду «неосенсуализма» от завтрашних писателей, не нужно считать моим опрометчивым умозаключением.
Если мы по-настоящему хотим «чего-то нового» в литературе, то это может быть, пожалуй, только так называемый «неосенсуализм». (Точку зрения, что «нео» не играет никакой роли, я оставляю за рамками рассматриваемой проблемы.) Даже литература, утверждающая так называемое «понимание цели» [37], если отвлечься от того, насколько «понимание цели» является новым или старым (допустим, такой вопрос будет задан, – на него можно ответить, что в девяностые годы прошлого века появился Бернард Шоу), есть путь, по которому следовало огромное число наших предшественников. Не говоря о том, что многое из нашего сегодняшнего мировоззрения можно почерпнуть даже из старинных карт для игры в «ироха». Более того, новое или старое в литературе или искусстве, в искусстве особенно, не может рассматриваться, исходя лишь из того, новое это или старое по времени.
Я понимаю, что современники не в состоянии понять, что представляет собой «неосенсуализм». Например, «Испанская семья» Сато Харуо до сих пор не утратила новизны. Тем более, когда это произведение печаталось в журнале «Сэйдза». Но новизна его нисколько не взволновала литературные круги. Может быть, поэтому сам Сато сомневается в новизне своего произведения, а затем и в том, достойно ли оно положительной оценки. Подобные факты существовали, разумеется, не только в Японии, но и в других странах. Но наиболее ярко они проявились именно здесь.
Я много раз повторял, что никогда не говорил: пишите лишь «бессюжетную прозу». И, следовательно, не стою на позициях, прямо противоположных тем, которые занимает Танидзаки Дзюнъитиро. Я призываю лишь к тому, чтобы признавалась значимость и «бессюжетных» произведений. Если найдутся люди, не согласные с этим, я готов дискутировать с ними. Я спорю с Танидзаки совсем не ради того, чтобы привлечь кого-то на свою сторону. (В то же время мне бы, конечно, не хотелось, чтобы появились сторонники у Танидзаки.) Мы должны сами, без помех, вести нашу дискуссию. Недавно в одном из журналов я увидел, что даже моя сюжетная проза называется бессюжетной, и решил написать эту статью. Но мне, видимо, так и не удалось объяснить, что представляет собой «бессюжетная проза». Я сделал все, что в моих силах. Некоторые из моих знакомых понимают, что я хотел сказать. А остальные могут расценивать мои слова, как им заблагорассудится.
Я слышал, что существует такой метод лечения истерии: предложить больному писать или говорить все, что ему хочется, и подумал, что рождение литературы – это не шутка – произошло, в частности, благодаря истерии. Любой архан в определённой мере истерик. Поэты имеют гораздо большую склонность к истерии, чем обычные люди. Эта истерия уже три тысячи лет доставляет им страдания. Некоторые из них умерли от неё, другие – сошли с ума. Но благодаря истерии поэты воспевали свою радость и свою печаль – мы имеем все основания думать так.
Среди мучеников веры и революционеров немало мазохистов, а среди поэтов – истериков. «Состояние, когда писать не можешь», – это состояние одного из персонажей мифа, который в дупло дерева прокричал: «У короля ослиные уши». Не будь такого состояния, не родилась бы, по крайней мере, «Исповедь глупца» (Стриндберг). Более того, бывали эпохи, когда истерия господствовала. В одну из них родились «Вертер» и «Рене». Если взять Европу, то к этим периодам можно отнести крестовые походы, но это, пожалуй, уже не входит в круг проблем «литературного, слишком литературного». С давних времён эпилепсию называют «святой болезнью». По аналогии истерию можно назвать «поэтической болезнью».
Было бы комичным рассматривать Шекспира и Гёте как людей, подверженных истерии. Это значило бы оскорбить их величие. Ведь великими, помимо истерии, их сделала сила воображения. Сколько раз у них случилась истерия – это проблема психологов. Наша же проблема – сила воображения. Работая над этой статьёй, я неожиданно увидел в девственном лесу безвестного поэта, бьющегося в истерии. Видимо, он был объектом насмешек обитателей своей деревеньки. Но лишь сила его воображения, форсируемая истерией, изольётся, подобно роднику, на будущие поколения.
Я не поклонник истерии. Муссолини, превратившийся в истерика, стал опасен в международном масштабе. Но как бы сократилось число радующих нас литературных произведений, если бы никто из их создателей не был подвержен истерии. Только поэтому я хочу оправдать её – истерию, ставшую привилегией женщин, но на самом деле знакомую любому человеку.
В конце прошлого века в литературе наступила эпоха истерии. Стриндберг в «Синей книге» назвал эту эпоху «творением дьявола». Мне, конечно, неизвестно, творение она дьявола или бога. Но всё равно любой поэт подвержен истерии. То, что Толстой, как видно из «Биографии» Бирюкова, в полубезумном состоянии бежал из дому, почти ничем не отличается от поступка одной больной истерией женщины, о которой недавно писали у нас газеты.
Помнится, Симадзаки Тосон называл себя «военным корреспондентом жизни» [38]. А недавно я услыхал те же самые слова, которые Хироцу Кадзуо адресовал Масамунэ Хакутё. Я, в общем, понимаю смысл употреблённых этими писателями слов «военный корреспондент жизни». Видимо, они противопоставлены слову «обыватель», изобретённому совсем недавно. Но, строго говоря, далеко не каждый, рождённый в нашем бренном мире, может стать «военным корреспондентом жизни». Хотим мы того или нет, жизнь превращает нас в «обывателей». Хотим мы того или нет – заставляет бороться за существование. Одни во что бы то ни стало стремятся одержать победу. Другие занимают оборонительную позицию, выслушивая сарказмы, остроты, восхищения. Есть, наконец, и такие, кто «бредёт по жизни», лишённый чётких убеждений. Но каждый из них фактически, хочет он того или нет, «обыватель». Персонаж человеческой комедии, над которым властвуют наследственность и среда.
Некоторые торжествуют победу. Другие – терпят поражение. Но и те и другие, в общем, мы все, пока живы, «приговорены к смертной казни, исполнение которой отсрочено», как сказал Патер. Мы сами вольны выбирать, как распорядиться этой отсрочкой. Вольны? Насколько вольны – это ещё вопрос. Мы появились на свет с уже определённой судьбой и сами не в состоянии осознать, что нам предначертано ею. Древние объясняли это словом «карма». Современные идеалисты, как правило, нападают на карму. Но их знамёна и копья демонстрируют лишь, насколько они энергичны. Демонстрировать свою энергию имеет, конечно, смысл. Речь идёт не только о современных идеалистах. Мы ощущаем могущество и в энергии Карнеги. Без такого ощущения никто не захочет читать его повествования о бизнесменах и политиках, обязанных своими успехами только себе. Однако карма не стала от этого менее угрожающей. Энергию Карнеги породила его собственная карма. Мы все обязаны склонить голову перед ней. Если нам, или, по крайней мере, мне, небом будет ниспослано смирение, ответственна за это только карма.
Мы все в той или иной степени «обыватели». И поэтому сами поклоняемся более удачливым «обывателям». Наш идол – бог войны Марс. Оставим в стороне Карнеги – «сверхчеловек» Ницше, соскреби с него налёт, окажется всё тем же Марсом, правда, в другом обличье. Не случайно Ницше с таким восхищением говорит о Цезаре Борджиа. Масамунэ Хакутё в «Мицухидэ и Сёха» заставляет «обывателя» из «обывателей» Мицухидэ издеваться над Сёхой. (Нужно сказать, что было бы парадоксальным называть Масамунэ Хакутё «военным корреспондентом жизни»…) Я не собираюсь насмехаться над Мицухидэ. Хотя мы сплошь и рядом, не задумываясь, рассыпаем насмешки.