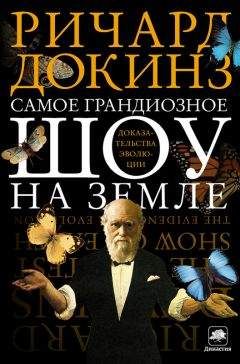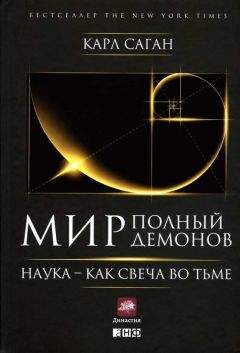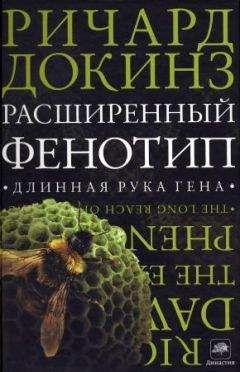Огарок во тьме. Моя жизнь в науке - Докинз Ричард
Около десяти лет спустя, ближе к концу жизни Питера, Джин пригласила меня на ужин к ним домой, в Хэмпстед на севере Лондона. Со времен нашей встречи в Германии физическое состояние Питера ухудшилось, но его ум был все так же остер, и Джин каждую неделю приглашала двоих-троих гостей, чтобы развлечь его. Те, кто, подобно мне, мало был знаком с ним лично, воспринимали приглашение как особую честь, и такие вечера не забывались. Вместе со мной была приглашена знаменитая журналистка Кэтрин Уайтхорн, и подозреваю, что она развлекала хозяина намного лучше, чем это удавалось мне, скованному благоговением. Единственной уступкой недугу было то, что он извинился и рано ушел спать: “Боюсь, я совсем больной”.
Большая честь была вновь оказана мне в июне 2012-го: сын Питера, Чарльз Медавар, вручил мне бесценную книгу из библиотеки отца – юбилейный сборник статей, выпущенный в честь выхода на пенсию великого шотландского естествоиспытателя Дарси Томпсона; редактором сборника был Питер, и тот экземпляр подписали все авторы, в том числе В. Б. Уигглсуорт, Дж. 3. Янг, Дж. Г. Вуджер, Э. С. Р. Рив, Джулиан Хаксли, О. У. Ричардс, Э.Дж. Кавана, Н.Дж. Беррилл, Э.Н. Уилмер, Дж. Ф. Даниэлли, УТ. Эстбери, А.Дж. Лотка, Дж. Х. Бушнелл и, конечно, оба редактора – У. Э. Ле Грос Кларк и П. Б. Медавар. Там была и подпись самого Дарси Томпсона, вклеенная для полноты картины. Большинство авторов были притчей во языцех для студентов-зоологов моего поколения, а Дарси Томпсон был особенным героем, которого Питер Медавар описывал так:
Образованный аристократ, чьи интеллектуальные богатства вряд ли когда-либо еще смогут соединиться в одном человеке. Он так хорошо знал античную литературу, что стал председателем Ассоциаций филологов-классиков в Англии и Уэльсе и в Шотландии. В математике он разбирался на достаточном уровне, чтобы его математическую статью приняло для публикации Лондонское королевское общество. В качестве естествоиспытателя он занимал две важных профессорских кафедры на протяжении шестидесяти четырех лет. <… > Он был знаменитым рассказчиком и лектором (считается, что эти два свойства обычно сочетаются, но на самом деле это случается редко), а его работы по литературным качествам не уступают трудам Пейтера или Логана Пирсолла Смита [27] в несравненном владении словесным belcanto. Прибавим к этому шесть футов роста, фигуру викинга и горделивость, происходящую от осознания собственной внешней привлекательности [28].
Если бы меня попросили выбрать, кто из ученых больше всего повлиял на мой стиль письма, я бы назвал другого образованного аристократа, Питера Медавара – по приведенной выписке может быть понятно почему.
Голландская грамота
В 1977 году меня пригласили прочитать лекцию на Международной этологической конференции, проходившей в городе Билефельд в Западной Германии. На том этапе моей карьеры было большой честью получить приглашение (а не самому подать заявку) прочитать лекцию на одной из крупнейших конференций в моей тогдашней сфере исследований, связанной с поведением животных. Выступление, которое я назвал “Отбор репликаторов и расширенный фенотип”, стало плодом большого труда. Впоследствии его опубликовали в журнале Zeitschrift für Tierpsychologie: именно в нем я впервые заговорил о понятии “расширенный фенотип” и употребил сам этот термин, впоследствии ставший названием моей второй книги.
Международная этологическая конференция проводится каждые два года в новой стране; я побывал на восьми: в Гааге, Цюрихе, Ренне, Эдинбурге, Парме, Оксфорде, Вашингтоне и Билефельде. Я упомянул цюрихскую конференцию 1965 года в книге “Неутолимая любознательность”: тогда я впервые выступил с докладом о своих диссертационных исследованиях, и австрийский этолог Вольфганг Шлейдт спас меня от позорного фиаско с техникой. Эти конференции начались задолго до моего прихода в науку, в виде камерных уютных встреч, на которых главенствовали Конрад Лоренц, привлекательный и броский, и его более спокойный, рассудительный и тоже красивый коллега Нико Тинберген. Выступления удлинялись еще и потому, что эти два великих старца – впрочем, тогда еще не таких старых, но уже великих – по очереди переводили доклады для аудитории с немецкого на английский или наоборот. К тому времени, как я начал ездить на конференции, они значительно расширились. Доклады на немецком встречались все реже, и времени на переводы уже не хватало.
Но языковые проблемы не исчезли. На одной из конференций, в Ренне, пожилой участник из Нидерландов заявил в программу свою лекцию на немецком. Должен с сожалением констатировать, что вследствие этого, когда он взял слово, большая часть англо-американского контингента слушателей стыдливо потянулась к выходу. Я остался на месте из неловкости и чувства такта. Бесподобный голландец, терпеливо улыбаясь, дождался за кафедрой, пока последний недостойный моноглот выскользнет за дверь. Затем его улыбка еще шире засияла от удовольствия, и он объявил (а среди всех европейцев голландцы, пожалуй, самые лингвистически одаренные), что передумал и будет читать лекцию на английском. После этого публики у него осталось еще меньше.
Ключевая участница той конференции из Франции накануне своего доклада провела опрос: сколько человек поймет, если она подчинится указаниям своих французских начальников и выступит на французском? Поднялось неприлично мало рук, так что она решила докладывать на английском. Об изменении ее намерений было объявлено заранее, так что на свое блестящее выступление она привлекла широкую аудиторию.
На той же конференции в Ренне один коллега из Кембриджа пробормотал свой доклад слишком быстро. Когда пришло время отвечать на вопросы, слушатель из зала яростно выбранил его на таком же скоростном голландском. Хоть я и не знаю языков, смысл его выступления я, как и многие, понял. Мы, носители английского языка, не должны злоупотреблять своей привилегией: благодаря стечению исторических случайностей наша lingua anglica стала новой lingua franca. Подозреваю, что хитроумный голландец на самом деле прекрасно понял моего кембриджского друга и выражал недовольство не от своего лица, но для блага других – возможно, и не голландцев, – которым было бы трудно понимать стремительный поток кембриджского английского. Я прибегал к похожему приему касательно не языка, но трудных научных вопросов, которые, как у меня были основания опасаться, могли быть непонятны некоторым студентам в аудитории. Другими словами, подобно (подозреваю) своему дорогому учителю Майку Каллену [29], я иногда прикидывался, что не понимаю какого-то научного утверждения, чтобы заставить говорящего выражаться яснее. Как бы то ни было, забота этого голландца о благе общества заставила меня склонить голову – вплоть до того, что по возвращении в Оксфорд я вернулся к прерванному (с окончанием школы) изучению немецкого языка под руководством прекрасной Уты Делиус – и тут услышал от одного возмутительно ограниченного коллеги: “О, не стоит этим заниматься. Ты только подольешь масла в огонь!” (Коллеги и друзья, которые опознают – с добрым чувством и без особых сложностей, – о ком я говорю, услышат эти слова с его характерной интонацией).
Надеюсь, что, выступая на конференции в Билефельде, я говорил достаточно медленно и ясно, чтобы все меня поняли. В любом случае, единственное неприязненное замечание от еще одного голландца-полиглота выразилось в яростных нападках на цвет моего галстука. Надо признать, галстук был ядовито-лиловым и резал его трепетный глаз своей вопиющей несочетаемостью с остальным моим облачением.
Кстати говоря, теперь я не совершаю подобных сарториальных промахов. Я ношу только галстуки, которые вручную расписала авторскими изображениями животных моя разносторонне одаренная жена Лалла. Среди сюжетов были пингвины, зебры, антилопы, хамелеоны, красные ибисы, броненосцы, палочники, дымчатые леопарды и… бородавочники. Последние, должен признаться, были подвергнуты суровой критике в высших кругах и с треском провалились в глазах коронованных особ. Я надел этот галстук по случаю приглашения на один из еженедельных обедов у королевы в Букингемском дворце, где оказался вместе с дюжиной озадачивающе разношерстных гостей: вокруг стола сидели директор Национальной галереи, капитан австралийской сборной по регби (чье “телосложение и выправка” полностью соответствовали ожиданиям), гордо держащаяся балерина (то же самое), самый известный мусульманин Британии [30], а под столом – не меньше шести корги. Ее Величество была само очарование, но мой галстук с бородавочниками не вызвал восторга. “Почему у вас на галстуке такие некрасивые животные?” Придется похвалить самого себя, ведь я неплохо нашелся с импровизированным ответом: “Мэм [31], когда животные некрасивы, насколько больше требуется художественного мастерства, чтобы создать такой красивый галстук?” Вообще говоря, на мой взгляд, это замечательно, что королева не ограничивается учтивыми беседами на ничего не значащие темы, но уважает своих гостей и прямо говорит им, что на самом деле думает. Что до бородавочников, мой художественный вкус с ней согласен: они не красавцы. Но в том, как они бегают, выставив хвосты вертикально вверх, есть некая беззаботность – не очарование, несомненно, не красота, но бойкое оживление, которое так меня радует. И это прекрасный галстук. Хочется думать, что и королева по размышлении согласилась бы со мной.