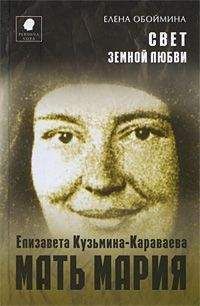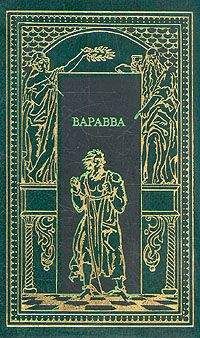Ирина Блауберг - Анри Бергсон
Установив связь числа с пространством, Бергсон задается вопросом о том, все ли мы можем одинаковым образом подвергнуть счету. Оказывается, что не все. Он выделяет два различных рода множественности: множественность рядоположения и множественность взаимопроникновения[138]. С первой мы имеем дело, например, когда хотим сосчитать материальные предметы: тогда мы их, как было показано выше, локализуем в пространстве. Вторая множественность с трудом поддается такой операции: она представляет собой множественность фактов сознания и способна «принять вид числа только посредством какого-нибудь символического представления, в которое непременно входят пространственные элементы» (с. 87). Здесь Бергсон употребляет понятие «символическое», играющее важную роль в его концепции. Процесс символизации он понимает особым образом: с его точки зрения, символизация – это операция рассудка, замещающая реальность ее пространственным представлением и тем самым искажающая ее. Так вот, это символическое представление, связанное с пространством, и искажает нормальные условия внутреннего восприятия. Говоря о времени, мы, как правило, мыслим его как однородную среду, в которой, подобно материальным вещам, рядополагаются состояния нашего сознания. «Но не будет ли понятое таким образом время по отношению к множественности наших психических состояний тем же, чем является интенсивность по отношению к некоторым из них, т. е. знаком, символом, совершенно отличающимся от истинной длительности?» (с. 89).
Прежде чем перейти к исследованию самой этой «истинной длительности» и того, что с ней связано, Бергсон останавливается на вопросе о том, как вообще понимается пространство и его отношение ко времени. Он затрагивает проблему, долго обсуждавшуюся в истории философии: проблему реальности или идеальности пространства. Придерживаясь своей исходной методологической позиции, Бергсон говорит именно о том, каким предстает пространство сознанию, и поэтому вопрос о «пространстве в-себе», или «самом по себе», он пока не обсуждает (или старается не обсуждать). Здесь он, как и в латинской диссертации (вспомним его рассуждения, связанные с идеей места у Аристотеля), солидаризируется с мнением Канта по поводу пространства: так, учение Канта, замечает он, «наделяет пространство существованием, независимым от того, что в пространстве содержится, объявляет теоретически отделяемым то, что каждый из нас реально отделяет… В этом смысле кантовская теория пространства гораздо менее, чем полагают, отличается от обычного воззрения на него. Кант был далек от намерения поколебать нашу веру в реальность пространства; напротив, он установил точный смысл этой веры и даже дал ей оправдание» (с. 89).
В латинской диссертации Бергсон упоминал в связи с проблемой пространства о двух видах существования – физическом и идеальном; в «Опыте» он под «реальностью пространства» фактически имеет в виду его идеальное существование. Прежде всего Бергсона интересует то, что пространство у Канта не сводится к порядку сосуществования тел, как полагал Лейбниц, что оно не тождественно протяженности. Он уже здесь очень четко разводит протяженность, разнородную среду, в восприятии которой играют большую роль качественные различия, и пространство. Для него принципиально, что в сознании имеется представление о пространстве как об однородной пустой среде, а такое представление дается актом разума; подобный акт, по мнению Бергсона, «весьма напоминает то, что Кант называет априорной формой чувственности» и сводится как раз к «интуиции или скорее к восприятию однородной пустой среды» (с. 90). Эта реальность без качеств представляет собой «принцип дифференциации, отличный от принципа качественной дифференциации» (там же). Такая идея приобретает все большую ясность по мере развития самого восприятия: животные, считает Бергсон, воспринимают внешний мир иначе, чем человек (они воспринимают именно протяженность), и только у человека возникает идея пространства, лишенного качеств. Эта-то идея и есть «основное данное сознания» (с. 92) – уточним, обыденного сознания; именно к ней оно стремится свести представление о времени. Между тем «время, рассматриваемое как бесконечная и однородная среда, есть только призрак пространства, неотступно преследующий рассудочное сознание» (там же).
Длительность как истинная последовательностьИтак, анализ идеи пространства подводит Бергсона к заключению, чрезвычайно важному для него, поскольку теперь, выяснив, как образуется ложное понятие о времени и чем не является истинное время, он может, наконец, перейти – от противного – к исследованию того, чем оно является. Если истинное время не есть однородная пустая среда, если оно не есть «множественность рядоположения» и если, вместе с тем, нельзя отрицать, что идея времени предполагает определенную последовательность, то какого рода эта последовательность? «Чистая длительность есть форма, которую принимает последовательность наших состояний сознания, когда наше “я” просто живет, когда оно не устанавливает различия между наличными состояниями и теми, что им предшествовали. Для этого оно не должно всецело погружаться в испытываемое ощущение или идею, ибо тогда оно перестало бы длиться. Но оно также не должно забывать предшествовавших состояний: достаточно, чтобы, вспоминая эти состояния, оно не помещало их рядом с наличным состоянием, наподобие точек в пространстве, но организовывало бы их, как бывает тогда, когда мы вспоминаем ноты какой-нибудь мелодии, как бы слившиеся вместе. Разве нельзя сказать, что, хотя эти ноты следуют друг за другом, мы все же воспринимаем их одни в других, и вместе они напоминают живое существо, различные части которого взаимопроникают в силу самой их общности?» (с. 93). Итак, длительность – своего рода органический синтез, внутренняя организация элементов, состояний сознания, которые не рядополагаются, а проникают друг в друга; в длительности есть последовательность, восприятие которой непременно предполагает наличие памяти, соотносящей настоящее с прошлым. О памяти Бергсон говорит еще в самой общей форме: это необходимый элемент его понимания длительности, но к специальному обсуждению его он пока не готов. Однако уже на этом этапе можно несколько уточнить его замысел. Введя различение двух типов множественности, он фактически разделил актуальное существование числа (числовое множество может быть сразу представлено в пространстве) и, как он скажет позже, виртуальное существование, характерное для явлений сознания, поскольку они суть длительность и сохраняются в памяти. Именно память делает возможной организацию состояний сознания и обеспечивает сохранение прошлого в настоящем, что представляет собой, по Бергсону, одну из главных черт длительности.
Здесь особенно хорошо видно, что унаследовала бергсоновская длительность у времени как «априорной формы внутреннего созерцания», постулированной Кантом. Время выполняло у Канта функцию упорядочения, объединения многообразных данных внутреннего опыта. Бергсон понимает время но-иному, но данной функции время у него не лишается. Процесс развития сознания как длительности – это процесс синтеза разнородных данных и состояний: длительность, представляющая собой одновременно и содержание, и форму сознания, осуществляет организующую функцию, обеспечивает единство в многообразии. Но именно поэтому она никак не может быть адекватно представлена пространственно, например в виде прямой или иной непрерывной линии: ведь части последней только соприкасаются, но не проникают друг в друга. Образ линии, имеющий пространственную природу, «предполагает не последовательное, но одновременное восприятие предыдущего и последующего» (с. 93). В виде линии можно представить только завершенное время, прошлое, где все уже дано и известно. Линия, траектория, как и все пространственное, – это необходимая принадлежность науки, а не «чистой психологии».
Итак, истинная последовательность конституируется взаимопроникновением состояний сознания. Однако Бергсон сам понимает, что последовательность такого рода очень трудно представить, поэтому он вновь и вновь пытается передать свою исходную интуицию, привлекая для этого массу образов, часто из сферы музыки. Он хочет помочь читателю самому проделать этот опыт – на его взгляд, чрезвычайно важный, ведь он способен и полностью изменить представление человека о самом себе, и преодолеть массу заблуждений и иллюзий, накопленных прежней психологией и философией. Излюбленным его примером стало восприятие мелодии: слушая ее, мы воспринимаем не отдельные звуки, а их последовательность, где каждый звук пропитан предшествующими; в нашем сознании продолжает звучать именно вся мелодия, и это – один из наиболее адекватных образов подлинной последовательности, в которой совершается организация состояний. Бергсон сравнивает длительность и с развивающимся организмом, и со снежком, снежинки в котором слипаются вместе, подобно тому как сливаются в единое целое состояния сознания. Отмечалось, что не все его метафоры удачны: так, образ снежка, или снежного кома, – представление слишком «вещное», а ведь именно «вещь», т. е. нечто статичное и стабильное, была для Бергсона антиподом процесса изменения, движения, развития[139]. Пример с мелодией более удачен; Бергсон, как до него Августин[140], прибегает в исследовании времени к слуховым метафорам, которые лучше, чем визуальные метафоры (всякая визуализация связана с пространственностью), передают ту идею динамической непрерывности, которая и стала, собственно, ядром его концепции, легла в основу и теории памяти, разработанной им позже, и учения о причинности, и онтологии.