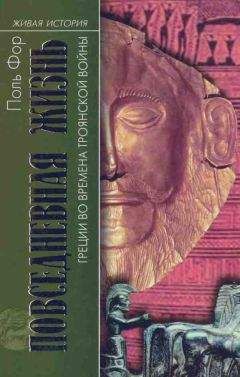Анатолий Черняев - Совместный исход. 1977
Паволини, редактор «Униты», с благословения Берлингуэра, попросил у Брежнева интервью. Один вопрос - о разрядке, остальные пять - о демократии в СССР.
Я предложил Б.Н.'у ответить отказом и объяснить это позицией «Униты» в вопросе Корвалан-Буковский. Не знаю, решится ли он? Горазд бурчать в кругу замов. А сам смертельно боится сделать малейший шаг: не хочет (подобно Черчиллю) присутствовать при распаде своей империи.
6 января я неожиданно был вызван к Пономареву. Он объявил, что «нас» вызывает Брежнев, просил быстро одеться и спуститься вниз к его машине. Поехали в Кремль. Успели вызвать Корниенко из МИДа. Блатов был уже там. Бовина не нашли (он в это время «заседал» в пивном баре).
Брежнев начал в своем обычном стиле, хорошо мне известном по Завидово. «Проснулся сегодня, зарядку сделал... Думаю, что-й-то такое мне вчера в голову пришло?.. Не сразу вспомнил. А вот что! Неплохая, в самом деле, идея: 20-го Картер вступает в должность. Почему бы не сказать что-нибудь ему такое перед этим, вроде как добрую волю проявить. И предлог хороший: Тулу-то ведь недавно наградили, дали городу «Героя». Я в Туле ни разу не был, хотя десятки раз проезжал через нее, туляки мне даже ружье чинили. Вот и поеду, поздравлю их, вспомню, как они стояли насмерть во время войны, можно сказать - спасли и Москву. И заодно скажу Картеру что нужно».
И стал ходить перед нами вдоль стола, диктовать «схему», все время оговариваясь, что, мол, примерно в таком духе... «Ну, там, конечно, не одни США должны присутствовать. Францию, например, надо помянуть» (больше никого не назвал). Вернулся к тулякам. «Надо, мол, помянуть тех, кто воевал и остался жив. Я вот ведь воевал, а живой»... и прослезился. Встал, прошелся к письменному столу, достал платок из ящика. Упираясь, тяжело сел. «Надо все это сделать выпукло. У меня настроение произнести это с волей. Я подготовлюсь... Вообще я считаю, что мне надо время от времени выступать пред народом... Без больших перерывов. Это поднимает людей, вызывает энтузиазм».
Прощаясь, попросил постараться, хотя времени мало - 18-го уже выступать.
И завертелось. В этот же день Л.И. сообщил о своем намерении на заседании Политбюро. И, поскольку Пономарев оказался вроде бы «бригадиром», к нему пошли звонки от других секретарей ЦК - каждый хотел «поучаствовать». В результате в Новом Огареве оказалось 10 человек (!), хотя работы (если всерьез) было для двоих-троих на два хороших рабочих дня. В пятницу выехали (помимо Пономарева): Блатов, Корниенко, Менделевич, Бовин, Наиль Биккенин (из отдела пропаганды ЦК), Вознесенский (политический обозреватель телевидения), Масягин (консультант из оргпартотдела ЦК) и я. Разделились на две группы - «внутренников» и «международников». И началась бодяга. В мутной дискуссии в течение многих часов не сложили даже плана. Пономарев, претендуя на общее руководство, занимался главным образом рассуждениями на основе прочитанных за последние дни шифровок и с обычными своими «любимыми ( антиимпериалистическими) игрушками», к которым мы в отделе привыкли и давно научились с ними обращаться так, чтобы не очень вредить реальной политике.
Распределили кое-как темы, разошлись по своим комнатам. Но на утро в субботу явился «Андрюха» Александров из Барвихи, где он болел воспалением легких, Брежнев ему позвонил и попросил вмешаться. Не захотел даже узнать, о чем мы тут накануне договорились. Для проформы изложил нам свои идеи, не стал слушать ни нас самих, ни наших замечаний на его «идеи». Решительно отвел малейшие намеки на прочие мнения, пригласил стенографистку. Через час текст международного раздела практически был готов. Звонарско- пропагандистский, но давал канву всему выступлению. Андрей Михайлович отбыл к себе в Барвиху болеть дальше.
А мы остались с текстом, с которым во многом были не согласны, даже Блатов. Побурчав, он, однако, стал отстаивать каждое слово андрюхиной диктовки.
По настоянию Пономарева был приглашен Арбатов, который дописал про отношения с Югославией и про Ближний Восток, что Корниенко тут же вычеркнул. Мы шили по канве «Воробья», хотя потом, после «первого чтения» у Брежнева осталось от его диктовки всего несколько абзацев, да и то сильно переделанных. Блатов, руководя нами, «расстраивался» между лояльностью к Александрову, здравым смыслом и нашими «инициативами».
Георгий Маркович Корниенко, тогда зав. американским отделом МИДа, хитрый хохол, знающий дело, прожженный мидовец, недолюбливал Александрова, говорили - видел в нем соперника на место Громыки.
Менделевич был послом по особым поручениям. Помнил я его еще по истфаку до войны - он учился на два курса старше, однокашник Гефтера. Всезнающий, умный, ловкий, высокообразованный. Единственный еврей в МИДе, никогда не пытавшийся скрывать своего еврейства. Сохранился каким-то образом там на высоких должностях до конца своих дней. Видно, в самом деле, редких качеств профессионал. Знал не только, где и в каком дипломатическом документе была поставлена существенная запятая, зачем и кем она была поставлена, но и цитировал Библию наизусть, а также Гумилева, Гете, Баратынского. Козырял латынью, хотя, как и я, учил ее только до войны, в университете...
15 января 77 г.
В понедельник Брежнев позвал к себе в Кремль - на первое чтение. Громкая читка - возобновленная привилегия Бовина. На первых же страницах, где говорилось о защите Тулы в 1941 году, Генеральный расплакался. «На этом фоне» международный раздел показался ему скучным (впрочем, это справедливо). По существу ничего не добавил. Поразил только тем, что при упоминании о двух инициативах Политического консультативного комитета Варшавского пакта (неприменение первыми ядерного оружия участниками Хельсинского совещания и не расширение обеих блоков) задал вопрос: что это значит? В чем тут смысл? И кто это предложил?! А прошло всего два с небольшим месяца после заседания ПКК в Бухаресте, где сам он это предложил, и где это было записано в коммюнике, а потом наши газеты, радио и телевидение не умолкая афишировали эти инициативы как новый выдающийся вклад Брежнева в дело мира.
Сказал, что посетит Ясную Поляну и «надо бы вписать об этом в выступление: «Это будет важно для нашей интеллигенции...»
Тут я подумал, что наш Генеральный уже абстрагируется от себя как отдельного индивидуума, мыслит себя в категориях общественного достояния и символа... На втором чтении текста мне пришло в голову такое сравнение: так же, как в свое время одевали царя для появления перед народом, мы сейчас «одеваем» Брежнева текстом речи, которую он произнесет, не очень-то понимая, что там написано, ибо важно (с точки зрения государственной) прежде всего то, о чем газеты пишут многократно на все лады.