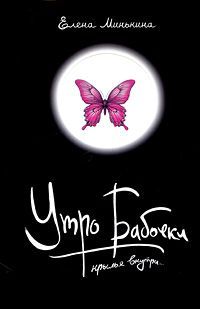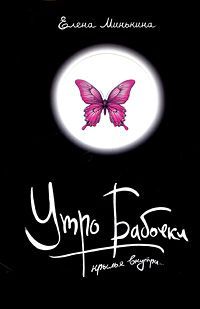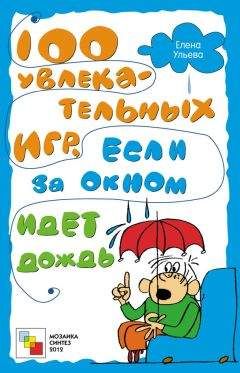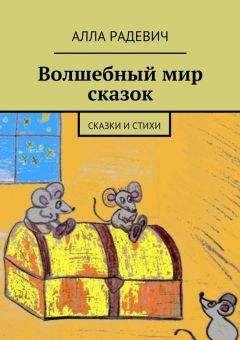Ванда Василевская - Мальвы
Тихий вечер опускается на Канев. По розовому небу тяжелым, дрожащим летом летят дикие утки на поросшие тростником озерца, начинающиеся почти в самом городе. Сумрак окутывает домики в овраге, — район, называемый Варшавкой. Высоко-высоко, отчетливо выделяется гранитная фигура поэта…
Утром на базарной площади шум. Всеми красками переливается обилие плодов. Груды зелени и желтых груш, крупные сливы, ведра вишен, малины, смородины, яблок. Чистенькие женщины в белых платочках приветливо улыбаются у своих корзин и кувшинов. А там, через Днепр, переправляются новые группы женщин, неся из садов Полтавщины зрелые плоды.
Некогда, сотни лет назад, быть может, в этом самом месте переправлялись караваны купцов, тянувшихся на юг, к месту своих постоянных встреч — Каневу. Когда-то, быть может, именно здесь шли татарские орды Батыя, который сжег и разрушил этот город. И еще столь недавно здесь двигались более дикие, более жестокие фашистские орды.
Теперь Канев цветет розовыми мальвами, благоухает свежим ароматом яблок, звучит голосами женщин в белых платочках и шевченковской речью и шевченковской песней.
Но дорога уже простирается вдаль, и перед нами возникает город, основанный великим князем Ярославом, — Корсунь.
Слышится шум. Это брызжет белой пеной река Рось. Она бежит в гранитных берегах, по гранитному руслу, и среди этих бесконечных полей, среди волнистых пригорков вдруг открывается русло реки — огромные камни и белая кипящая пена на быстрой волне. Над вспененной водой мост, за ним — мощные ворота, ведущие к месту, где стоял корсуньский замок. В извилине Роси — зеленый, шумящий деревьями остров. И даже странно, что это не подъемный мост и что по аллеям парка ходят не рыцари в панцырях, а раненые из расположенного здесь госпиталя.
Корсунь. Сколько раз повторялось это название в многовековой истории Польши и Украины. Это здесь, под Корсунью, Богдан Хмельницкий разбил войска Речи Посполитой. Это здесь, в Корсуни, лет двадцать пять спустя вздымалось к небу пламя подожженного поляками города, а еще лет двадцать пять спустя Самусь и Палей громили поляков. Гранитные скалы, среди которых течет Рось, много раз окрашивались кровью, много раз перекатывалось в них эхо предсмертных криков.
Корсунь… Я знала этот город главным образом по Сенкевичу, и вот я смотрю на реку, на домики, нависшие над обрывом, на зелень парка, на приветливо улыбающиеся лица и думаю о наших днях, которые перебросили мост между двумя народами через бездну обид, слез, крови, через чудовищные несчастья и горе и научили братьев братству.
За Корсунью пролегла чудеснейшая, живописная дорога, то и дело открывающая нашим глазам новые неожиданности. Высокие холмы, почти горы, покрытые зеленым лесом. Небольшие озера, поросшие тростником, у плотины мельница, над озером по зеленому холму разбросаны деревья. Ослепительно белые, чисто выбеленные известью хаты, тщательно огороженные сады. Много садов. И так всюду — что ни озерцо, то новая деревня. У одного берега, крякая, плавают домашние утки, но чуть подальше торопливо исчезает в камышах чирок и ныряет кряква.
По дороге, в канавах, на полях множество разбитых машин, поврежденных орудий, свернувшихся змеями танковых гусениц. Ведь это место корсуньской битвы, место сокрушительного поражения гитлеровцев, место гибели десятков их дивизий… На окраинах деревень братские могилы советских воинов, заботливо охраняемые, обсаженные цветами.
В полях молотилки, снопы, сложенные в высокие скирды. Скошенный хлеб еще лежит на земле. Косилки и косари, побрякивающие косами, странно малы и как будто даже беспомощны перед лицом этих огромных, просторных полей, которые немыслимо обработать только одними руками. В деревнях пусто: все в поле, все на уборке.
За Таганьчей мы въезжаем в почти девственный лес. Открывается долина. Сонные глаза прудов смотрят из-под зеленых ресниц, огромные деревья шумят где-то высоко, в самых вершинах. Крепко пахнет нагретой зеленью. Радостным призывом несется посвист иволги. Зеленый мох глубокой тенью лежит у подножий деревьев. Так и ждешь, что вот-вот из ароматной, зеленой тишины покажется золоторогий олень и глянет заколдованными глазами.
И снова поля, а на полях могилы. Новые, оставленные теперешней войной, и старые-престарые древние могильники. Их много. В них находят шведские монеты, рыцарские кольчуги, казацкие пики, каменные топоры, золотые скифские украшения. Сама история дремлет в этих огромных плоских курганах, из которых до сих пор исследованы лишь немногие. А с полей, где идет уборка урожая, доносится шевченковская песня, звенящая мелодией жаворонка.
Но вот и Умань.
И снова возникают ассоциации. Это здесь, в Умани, окончил гимназию Северин Гощинский, поэт, солдат и революционер, виднейший представитель того направления в польской поэзии, которое называется «украинской школой». Он полюбил украинскую степь, украинскую историю. И Украина давала ему вдохновение, как давала она его Мальчевскому, Залесскому, Словацкому, как давала многим польским поэтам.
Под самым городом — Софиевка. Некогда в гимназии приходилось в принудительном порядке, с адской скукой, читать поэму польского классика Трембецкого, описывающего поочередно все ее красоты. Некогда в гимназии приходилось слышать романтическую историю прекрасной гречанки Софьи, для которой Щенсны Потоцкий, словно мановением волшебной палочки, создал этот парк.
Но ни строфы Трембецкого, ни эта любовная история не дают представления о том, что такое Софиевка. Ни о ее очаровании, ни о ее истории.
А эта история довольно мрачна, и невозможно не думать о ней, когда восхищенные глаза смотрят на чудеса, созданные сотрудничеством человека и природы.
Это для прекрасной гречанки Софьи крепостной крестьянин таскал огромные скалы, чтобы поэтически разбросать их по парку. Это для нее крепостной крестьянин копал гроты и таскал ил из прудов. Это ради нее погибло под огромным обломком скалы триста человек, тащивших скалу на собственных плечах.
Трудно поверить, что все это создано человеческими силами, что можно было без кранов и машин сдвинуть эти глыбы, вырвать их из земли, перенести сюда. Они выглядят так, будто всегда тут были. И чтобы их сдвинуть с места, нужны были силы гигантов.
Из верхнего пруда вырывается река. Она разливается зеленым озерцем, чтобы затем ринуться вниз пенящимся, ревущим водопадом. На нижнем озере из пасти медного свернувшегося змея бьет высокий фонтан, похожий на гигантское серебристое дерево. Дубы, грабы, вязы, клены, десятки различных деревьев образуют аллеи, лабиринты, рощи, лесочки. В Львином гроте ревет вода и порастает зеленым мхом камень — скамья у каменного стола, на котором граф Потоцкий будто бы проиграл Софиевку в карты. Из чащи выглядывают белые статуи — те, которые не успели похитить гитлеровцы. Волшебные уголки — источники, ручейки, висячие мостики, романтические переходы по зеленым от ветхости обломкам скал. С виду дикая, буйная, огромная роща — на самом деле творение рук крепостных мужиков, политое слезами и кровью, произведение художников и нечеловеческого крестьянского труда.