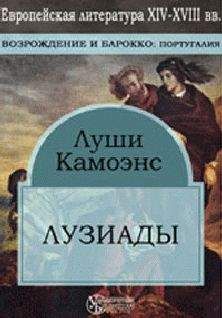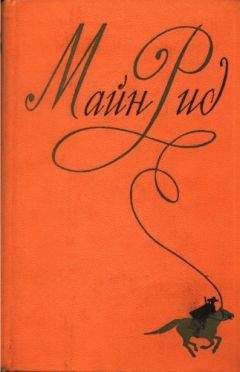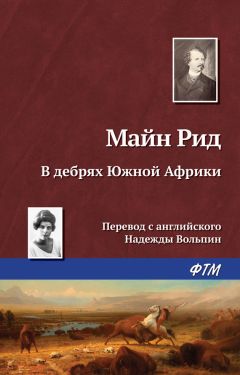Михаил Филиппов - Готфрид Лейбниц. Его жизнь, общественная, научная и философская деятельность
Учитель Лейбница вскоре заметил, чем занимается ученик. Не долго думая, он отправился к лицам, которым мальчик был отдан на воспитание, требуя, чтобы они обратили внимание на «неуместные и преждевременные» занятия Лейбница.
«По его словам, – пишет Лейбниц, – эти занятия были только помехой моему учению. Ливии годился, по его мнению, для меня, как котурн для пигмея. Книги, годные для старшего возраста, надо отобрать у мальчика и дать ему Orbis pictus Коменского и маленький катехизис. Без сомнения, он убедил бы моих воспитателей, если бы случайным образом свидетелем этого разговора не оказался один живший по соседству ученый и много путешествовавший дворянин, друг хозяев дома. Пораженный недоброжелательством или, лучше сказать, глупостью учителя, который мерил всех одною мерою, он стал, напротив, доказывать, как было бы нелепо и неуместно, если бы первые проблески развивающегося гения были подавлены суровостью и грубостью учителя. Наоборот, надо всеми средствами благоприятствовать этому мальчику, обещающему нечто необыкновенное. Немедленно попросил он послать за мною, и когда, в ответ на его вопросы, я ответил толково, он до тех пор не отстал от моих родственников, пока не заставил их дать обещание, что меня допустят в библиотеку моего отца, давно находившуюся под замком. Я торжествовал, как если бы нашел клад, потому что сгорал от нетерпения увидеть древних, которых знал только по имени, – Цицерона и Квинтилиана, Сенеку и Плиния, Геродота, Ксенофонта и Платона, писателей Августова века и многих латинских и греческих отцов церкви. Все это я стал читать, смотря по влечению, и наслаждался необычайным разнообразием предметов. Таким образом, не имея еще двенадцати лет, я свободно понимал латынь и начал понимать по-гречески».
Этот рассказ Лейбница тем более ценен, что подтверждается и сторонними свидетельствами, доказывающими, что его выдающиеся способности были замечены и товарищами, и лучшими из преподавателей. Лейбниц особенно дружил в школе с двумя братьями Иттигами, которые были значительно старше его возрастом и считались в числе лучших учеников. Отец их был учителем физики, и Лейбниц любил его больше прочих учителей.
Кроме физики и Ливия, Лейбниц увлекался еще и Вергилием; до глубокой старости он помнил наизусть чуть ли не всю «Энеиду». В старших классах его особенно отличал Яков Томазий, однажды сказавший мальчику, что рано или поздно он приобретет славное имя в ученом мире.
Впоследствии Лейбниц изобразил в довольно поэтической форме свои юношеские стремления, описав себя под именем Пацидия.
«Когда Пацидия допустили в библиотеку отца, он взял себе в учителя Провидение. Он слышал внутренний голос, повелевавший ему: tolle lege! (возьми и прочитай). Сама судьба назначила ему остаться без посторонней помощи, без совета, и в его возрасте ему осталось руководствоваться лишь собственной смелостью. По воле случая он прежде всего занялся древними… и подобно тому, как люди, часто бывающие под лучами солнца, загорают помимо своей воли, так и он приобрел известного рода окраску не только в выражениях, но и в образе мыслей. Когда он позднее принялся за новейших писателей, ему стало тошно от их книг, заполонивших в то время книжные лавки, от этих мешков, набитых пустотою или бестолковою смесью чужих мыслей, без привлекательности, без силы и полноты, без всякой живой пользы. Можно было подумать, что все это написано для какого-то иного мира, который эти авторы называли то своею республикой, то своим Парнасом. Когда он снова думал о древних, с их мужественными, полными силы мыслями, объединяющими всю жизнь человеческую как бы на одной картине, с их естественною, ясною, текучею, приспособленною к содержанию формой, – различие оказывалось огромным! Оно было так велико, что Пацидий с той поры поставил себе двумя основными правилами: искать в словах и выражениях ясности, в вещах – пользы. Позднее он узнал, что ясность есть основа всякого суждения, а польза – основа всякого открытия, и что большинство людей заблуждаются именно потому, что слова их неясны, а опыты бесцельны. Вооруженный такими началами, он казался своим сверстникам по школе каким-то чудом».
Любопытно, что еще в двенадцатилетнем возрасте Лейбниц любил отыскивать во всем «единство и гармонию». В первый раз он усмотрел и то, и другое в различных науках. Он успел понять, что цель всех наук одна и та же и что наука существует для человека, а не человек для науки. «Он пришел к мысли, что отдельному человеку должно казаться наилучшим то, что плодотворнее всего для всеобщего, и что наилучшим средством для прекрасного служит человек».
Лейбницу не было еще четырнадцати лет, когда он изумил своих школьных учителей, проявив еще один талант, которого в нем никто не подозревал. Он оказался не только филологом, но и поэтом, – по тогдашним понятиям истинный поэт мог писать только по-латыни или по-гречески.
В день Троицы, по обычаю, один из учеников должен был прочесть праздничную речь по-латыни. Ученик, на которого выпала эта обязанность, заболел, и никто не вызвался заменить его. Наконец обратились к Лейбницу: товарищи знали, что он мастер писать стихи. Действительно, Лейбниц взялся за дело и в один день настрочил триста гекзаметров, причем, для пущей важности, нарочно постарался избежать хотя бы единого стечения гласных. Стихотворение вызвало одобрения учителей, которые признали Лейбница выдающимся поэтическим талантом, хотя и выразили опасение, что он, ради стихотворства, пренебрежет научными занятиями. Опасения были напрасны. Натура Лейбница отличалась такой жаждой новизны, что он не мог остановиться окончательно на какой-либо одной стороне умственной деятельности. Тогдашняя сухая школьная логика привлекала его не менее поэзии. В этой скучной науке Лейбниц сумел найти больше того, что ему предлагали в учебниках и в классе. Под покровом варварских схоластических формул Лейбниц сумел увидеть нечто такое, что скрывалось от его учителей. В четырнадцатилетнем возрасте он стал вдумываться в истинную задачу логики как классификации элементов человеческого мышления. Лейбниц рассказывает об этом следующее:
«Я не только умел с необычайною легкостью применять правила к примерам, чем чрезвычайно изумлял учителей, так как никто из моих сверстников не мог сделать того же; но я уже тогда во многом усомнился и носился с новыми мыслями, которые записывал, чтобы не забыть. То, что я записал еще в четырнадцатилетнем возрасте, я перечитывал значительно позднее, и это чтение всегда доставляло мне живейшее чувство удовольствия. Из моих тогдашних соображений приведу лишь один пример. Я видел, что логика подразделяет простые понятия на известные разряды, так называемые предикаменты[2]. Меня удивляло, почему не подразделяют подобным же образом сложные понятия или даже суждения так, чтобы один член вытекал или выводился из другого. Придуманные мною разряды я называл также предикаментами (категориями) суждений, образующими содержание или материал умозаключений, подобно тому, как обыкновенные предикаменты образуют материал суждений. Когда я высказал эту мысль своим учителям, они мне не ответили ничего положительного, а только сказали, что мальчику не годится вводить новшества в предметы, которыми он еще недостаточно занимался. Позднее я понял, что порядок, к которому я стремился, совершенно тот же, как в элементарной математике, где одно предложение вытекает из другого. Этого самого я напрасно добивался от философов».