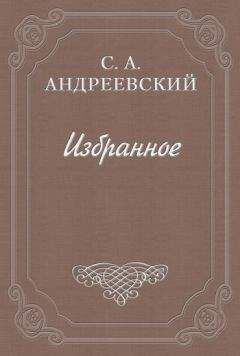Алехандра Писарник - Стихи
Назвать тебя
Вместо стихов о твоём отсутствии —
рисунок, трещина в стене,
нечто на ветру, горький привкус.
С открытыми глазами
Кто-то измеряет, рыдая,
пространство рассвета.
Кто-то полосует ножом подушку
в поисках невозможного
для себя покоя.
Ещё один рассвет
Вижу как надвигаются призраки безмолвия и
отчаяния. Вслушиваюсь в серые напряженные голоса
в древнем углу сердца.
Обмороки, или Созерцание того, что кончается
Куст сирени облетает.
Осыпается с самого себя,
прячет свою древнюю тень.
От подобного я умру.
Поиск
Октавио Пасу
Вечно сирень на том берегу.
И если душа спрашивает,
далеко ли это, ей отвечают: на другом берегу,
не на этом, а на том.
Пути в зеркале
Фрагменты
Главное — смотреть невинно. Словно ничего не
происходит, что так и есть.
Точь-в-точь девочка, намалёванная розовым мелком
на очень старой стене, внезапно смытая дождём.
А жажда — моя память о жажде: я внизу, на дне
колодца, и, помнится, всё пью и пью.
Как та, которой ничего не нужно. Вообще ничего.
Рот зашит. Веки зашиты. Я забылась. Внутри
ветер. Всё замкнуто и ветер внутри.
Но безмолвие — явно. Поэтому и пишу. Я одинока —
и пишу. Нет, не одинока. Кто-то дрожит рядом.
Даже когда я говорю солнце, луна, звёзды, я имею в виду
то, что со мной происходит. А что я желала? Я
желала безукоризненной тишины. Вот и говорю.
Сладостно терять себя в образе, который
предчувствуешь. Я восстала из своего трупа и от —
правилась на поиск своей сути. Скиталица по себе
самой, я пошла к той, что спит в краю ветра.
Мое бесконечное падение в мое бесконечное
падение, где никто меня не ждал. И оглядевшись,
не ждёт ли меня кто-нибудь, я не увидела никого,
кроме себя.
Знаки
И я всё ещё отваживаюсь любить
звук голоса в омертвевшем времени,
цвет времени на осиротевшей стене.
Мой взгляд все растерял. Так далеко —
просить. Так близко — понимать, чего нет.
Маленькие напевы
только слова
слова детства
слова смерти
слова ночи слова тел
агония
фантазёрок
осени
Трещины в стенах
чёрные чары
дерзкие фразы
зловещие стихи
Заполняешь напевом трещину.
Разбухаешь в темноте, как утопленница.
О заполни другими песнями разрыв, трещину,
прореху.
мой напев когда я спала на заре
был именно им?
навязчивая мысль
детская сказка
рана
Стихотворение
Искать. Это не слово, это обморок.
Оно не означает действия.
Означает не идти навстречу
кому-то, а — застыть, потому что кто-то
всё не приходит.
Из записных книжек
Недоумение
Мама рассказывала нам о России с ее заснеженными лесами: «…а еще мы лепили из снега снежных баб и нахлобучивали на них шляпы, которые крали у прадедушки…»
Я смотрела на нее в недоумении. Что такое снег? Почему баб надо лепить? И главное: что это за штука — «прадедушка»?
Поговорили
— Вон та дама в черном — видите, она улыбается нам из трамвайного окошка? — удивительно похожа на мадам Ламорт, — заметила я.
— Ничего подобного — в Париже ведь нет трамваев! И потом дама в черном ничуть не похожа на мадам Ламорт: всё наоборот, это мадам Ламорт на нее похожа. И вообще, мало того что в Париже нет трамваев, я в жизни не видала мадам Ламорт, даже на фотографии.
— Тут мы с вами в одинаковом положении: я тоже понятия не имею, как выглядит мадам Ламорт.
— А вы кстати кто? Давайте познакомимся.
— Я — мадам Ламорт, — отвечаю я. — А вы?
— Мадам Ламорт.
— Что-то не припомню такого имени.
— Нет, вы уж постарайтесь, пока трамвай не пришел!
— Но вы же только что сказали, что в Париже нет трамваев?
— Когда я так говорила, их действительно не было, но жизнь ведь так переменчива.
— В таком случае, давайте подождем его, раз уж все равно стоим на трамвайной остановке, — сказала я.
Девочка в саду
Солнечное пятнышко в тенистом саду, крохотный просвет меж черных листьев. А рядом я, в мои четыре года единственная хозяйка всех этих птиц, алых, синих. Самой прекрасной из них я говорю:
— Я подарю тебя, пока не знаю кому.
— Думаешь, я понравлюсь? — спрашивает она.
— Я тебя подарю, — твержу я.
— И не надейся — некому тебе будет подарить птицу.
* * *Один господин из Колумбии сообщил мне:
— У нас дятла называют стукачом.
— А как же тогда называют стукача?
— Так дятлом же, ясное дело!
Дождь и покойники
У кладбища жил некий человек
Уильям ШекспирОдин человек жил возле кладбища, и никто его не спрашивал почему. А с какой стати, в сущности, кто-то должен об этом спрашивать? Я вот, например, не живу возле кладбища, и меня тоже никто не спрашивает почему. Тут все-таки какая-то собака зарыта, в смысле, есть что-то болезненное, извращенное — и когда спрашивают, и когда нет. В любом случае странно: один живет возле кладбища, и никто не интересуется, чего это он, а другой живет от кладбища очень даже далеко, так ему тоже почему-то не задают никаких вопросов по этому поводу. Кстати, тот человек жил возле кладбища не случайно. Мне скажут, что случайно все, даже место жительства. Пусть говорят, это совершенно неважно — кто бы что мне ни говорил, до меня все равно ничего не доходит. Я слышу лишь далекие всхлипы, погребальное пенье из священных глубин, где схоронено мое детство. Вообще-то я вру. В данный момент я попросту слушаю голос Лотты Ленья, поющей в «Die Dreigroschenoper»[3]. Само собой, это всего-навсего запись, но я не перестаю поражаться, как за три года — в последний раз я слушала ее как раз три года назад — ровно ничего не изменилось для Лотты Ленья и так много (может, даже всё, чтобы быть точной) для меня. Я узнала о дожде и о смерти. Может, поэтому, только поэтому, из-за дождя над могилами, из-за дождя и мертвых, и ни почему больше, и возник тот никому неведомый человек, что жил возле кладбища. Вообще-то мертвые, как правило, не подают признаков жизни. Ни плохой, ни хорошей. Наше существование, то что до гробовой доски, — репетиция оркестра грядущей тишины. Но что-то тайное, сокровенное все же проступает оттуда, когда над кладбищем идет дождь. Я ведь своими глазами видела человечков в черном; они пели за упокой древние плачи, сложенные безвестными бродячими поэтами. Я видела их мокрые от дождя лапсердаки, их напрасные слезы и своего отца, такого молодого, слишком молодого, с кистями и лодыжками греческой статуэтки — наверняка ему было страшно в первую ночь в этом ужасном месте. Человечки в черном вскоре ушли. Один, совсем обносившийся, задержался возле меня, готовый поддержать, если понадобится. Может, это как раз и был тот сосед, о котором сказано: «У кладбища жил некий человек». О, как изменилась пластинка, как состарилась Лотта Ленья! Как пьянит мертвых мутный, отчужденный дождь, там, на кладбище, таком странном, таком еврейском! Только слушая, как дождь стучит по могильным плитам, я и могу узнать что-то о том, о чем я узнать боюсь. Голубые глаза; глаза, навеки вправленные в свежую черноту земли на пустынном еврейском погосте. Вот бы нашелся возле кладбища заброшенный домик — вот бы он был мой! Я бы стояла там, на крыльце, как на капитанском мостике, и, не отрываясь, смотрела в подзорную трубу на могилу своего отца под дождем, ведь дождь единственное, что сближает нас с мертвыми — случается, в дождь они являются нам, недаром же люди столько говорят о духах, призраках, привидениях. Иногда зимой я ясно чувствую: мои ушедшие здесь, рядом; это все дождь — он нас сближает. Что правда, то правда: не все ли равно, кого или что нарекли некогда Господом Богом; но правда и другое — то, что как-то раз мне случилось прочесть в Талмуде: «Есть у Господа нашего три ключа: ключ от дождя, ключ от рождения и ключ от воскресения мертвых».