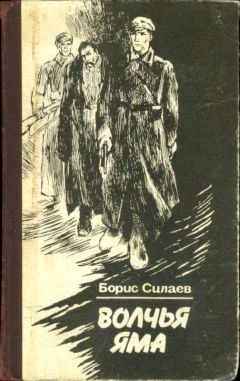Вера Фигнер - После Шлиссельбурга
Вера Фигнер.
16 февраля 1929 г.
Глава первая
В Архангельске
Через две недели после выхода из Шлиссельбурга меня отправили в ссылку. По случаю войны с Японией местом назначения не была Сибирь. Моим родным предложили на выбор Ташкент или Архангельскую губернию. Они предпочли последнюю, считая, что после Шлиссельбурга жаркий климат Ташкента был бы губителен для моего здоровья. Мне дозволили ехать на свой счет, но я должна была взять на себя путевые издержки в Архангельск и обратно двух жандармов, сопровождавших меня, и полковника Дубровина, бывшего одно время смотрителем в Шлиссельбурге. Моя сестра Лидия Стахевич ехала со мной до Ярославля, где ее должна была сменить сестра Ольга Флоровская, жившая в то время в этом городе; они не хотели оставить меня одну на первых порах моей новой жизни.
Когда из Петропавловской крепости меня везли на Николаевский вокзал, занавеска окна в карете была задернута не вполне, и я с любопытством смотрела на улицу. Все прохожие казались мне одетыми в серые арестантские халаты, которые я привыкла видеть во время заключения. В глазу я получала, конечно, оптическое изображение фигур в пальто и шляпах или фуражках, но привычка делала то, что я видела обычный костюм арестанта. Я не различала также черт лица прохожих: их лица были для моего глаза сплошным бледно-желтым пятном. Это особенно поразило меня, когда мы подъехали к вокзалу и я вышла из кареты: у всех встречных вместо лиц были совершенно одинаковые желтые овалы. Никогда с тех пор это не повторялось; только в Архангельской тюрьме было нечто похожее на эту аберрацию зрения: когда во время прогулок случайно мне навстречу шел кто-нибудь из уголовных, я в волнении бросалась вперед — я видела фигуру и лицо Фроленко, Антонова или другого товарища из оставшихся в Шлиссельбурге. Серый арестантский халат давал повод к тому, что я видела не то, что было в действительности.
Мы приехали в Архангельск 17 октября, и когда солнце всходило, и я вспомнила, что этот день — воскресенье, то невольно подумала: не счастливое ли это предзнаменование, и не начнется ли с этого дня мое воскресение?
С вокзала мы пересели на пароход «Москва» и переправились через Северную Двину, широкую и прекрасную. Недалеко от берега бросался в глаза собор с синими куполами, усеянными золотыми звездами, а город, в который мы въезжали, был украшен флагами по случаю спасения царской семьи при крушении в Борках 17 октября 1888 года; но при желании я могла вообразить, что население чествует мой приезд.
Когда мы подъехали к канцелярии губернатора, двери были еще заперты, и сторожа, протирая глаза, тащили флаги на площадь перед домом губернатора.
Губернатор, правитель канцелярии и их подчиненные еще не вставали, и мы вошли в пустынные покои, где было много чернил, бумаги и расстроенные хрипящие часы. После 11-ти явился правитель канцелярии, и стало выясняться положение дел. Полковник Дубровин, сопровождавший меня с двумя жандармами, подал ему запечатанный пакет, и по мере того, как чиновник читал бумагу департамента полиции, его лицо, прежде предупредительно-любезное, вытягивалось и становилось все серьезнее.
— Я должен тотчас же препроводить вас в тюремный замок, — начал он, обращаясь ко мне. — Затем, согласно распоряжению департамента полиции, вы будете отправлены в отдаленнейшие места Архангельской губернии. Там вы не должны иметь ни одного товарища из политических ссыльных. Два полицейских стражника будут сопровождать вас и останутся на месте назначения для постоянного наблюдения за вами.
Я стояла ошеломленная. Я рассчитывала по приезде в Архангельск остаться на свободе с сестрой и быть отправленной в какой-нибудь уездный город или село поблизости. Перед отъездом из Петербурга мой брат Петр был принят в департаменте полиции с большой любезностью. Кто-то из высших чинов, принимавших его, сказал:
— Довольно она натерпелась: теперь все будет по-другому. Будьте покойны: ей будет хорошо.
Окрыленные надеждой, мы двинулись в путь. И вот каково оказалось это «другое»! Меня заключали в острог и разлучали с сестрой, которая сопровождала меня и надеялась поселиться со мной в гостинице, а теперь тщетно предлагала поставить стражу там, где мы остановимся, и взять на себя расходы по содержанию этой охраны. Вместо ближайшего места поселения предо мной вставала перспектива отправиться за 2400 верст от губернского города и жить в безлюдном крае, без единого друга и без кого-либо из родных, потому что, имея собственные семьи, они не только не могли оставаться со мной, но даже и проводить в такую даль. Отдаленнейшие места губернии — это сплошные тундры, по которым проезд возможен только зимой, когда болота замерзают, и туда-то департамент полиции отправлял меня. Можно себе представить, что это была бы за жизнь в сообществе двух полицейских, как это было с Н. Г. Чернышевским и после него в первый раз применялось ко мне, только что вышедшей из Шлиссельбурга.
Моя сестра Ольга, живая и энергичная, защищала меня, как львица, оспаривая один за другим все пункты инструкции, данной относительно меня. Напрасно правитель канцелярии уверял ее, что не в его власти изменить что-либо в предписаниях из Петербурга. Я молчала, сдерживая волнение. Потеряв, наконец, терпение от этих споров с бессильным чиновником, я проговорила:
— Бесполезно спорить; поедемте.
Я обняла сестру, любящее сердце которой было неустанно в заботе обо мне; явившийся полицеймейстер отвез меня на извозчике в тюрьму.
Опять тюрьма, опять стены, смотритель, надзирательница, обыск и камера, изолированная не только от политических, но и от уголовных. И тишина. Опять тишина!
Каждый день сестра, бросившая на неопределенное время мужа и сына в Ярославле, навещала меня по вечерам, и мы беседовали часа полтора-два, всегда в присутствии смотрителя, хотя губернатор Бюнтинг и обещал сестре свидания без посторонних ушей.
Уходя в Шлиссельбург, я оставляла сестру Ольгу девушкой, едва достигшей 21 года и только что кончившей Бестужевские курсы. В то время она смотрела на меня как на свою учительницу, быть может, даже как на идеал. Моя участь только обострила ее чувство преданности мне: с годами эта преданность не ослабевала, и когда я была освобождена, — в ее душе было ликование, которого во мне самой не было и следа. Каждое утро, по ее словам, первой ее мыслью было: «она — свободна! она свободна!» И это в то время, когда чувство свободы еще ни разу не пробежало в моей душе.
Теперь с чисто материнской нежностью она, как птичка, вилась около меня, окружая попечением и заботливостью. Я очень нуждалась в этом: оторванная от шлиссельбургских товарищей, я теряла скрепу, которую дала тюрьма, и еще не приобрела новой — вне ее. Не говоря о посещениях ее, которые помогали мне сохранять бодрость духа и претерпеть внутренний ужас перед одиночеством, которым угрожал мне департамент полиции, — одиночеством более страшным, чем был бы теперь для меня Шлиссельбург, — она со всем пылом горячей любви боролась за меня с губернатором, с департаментом и готова была бороться со всем светом, лишь бы добиться отмены свирепых распоряжений, обрушившихся на меня.