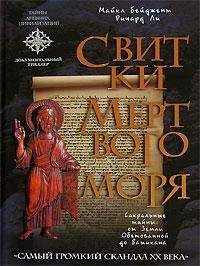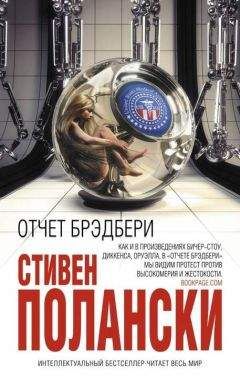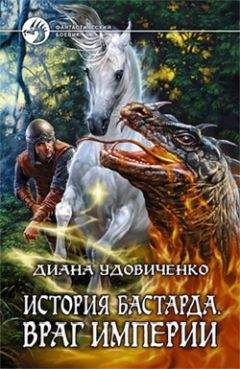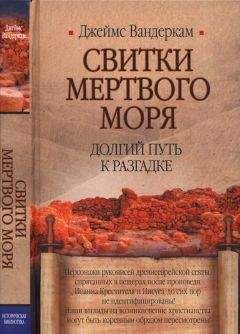Роман Полански - Роман
[...] Свою мать я помню смутно. Помню ее голос, помню, как изящно она подрисовывала выщипанные брови, как тщательно подкрашивала губы, чтобы, следуя веяниям моды, изменить линию рта, помню злобную мордочку лисы на воротнике, которая яростно кусала собственный хвост. Помню, какой естественной показалась мне мама, когда однажды, зайдя в ее комнату, я застал ее голой. Позднее многие говорили мне, что она была замечательно хороша собой. Как показала война, она была изобретательна и горда. Приятно думать, что свое упрямство и живучесть я унаследовал от нее.
Помню, летом родители сняли домик на горном курорте с непроизносимым названием Шчирк. Как оказалось, это были последние беззаботные и счастливые дни, которые нам суждено было провести вместе. Тогда же я впервые по-настоящему соприкоснулся с природой. Чудесная холмистая местность была покрыта лесами. Я потом долго был уверен, что леса должны обязательно расти на склонах холмов.
Родители с друзьями играли в саду в карты. Я наблюдал за ними издали, раскачиваясь на складном стуле, пока от моих манипуляций он не рухнул, а пальцы мои не застряли между дощечками. Я чувствовал себя смущенным и виноватым. Меня предупреждали, чтобы я не баловался на складном стуле, и мне не хотелось, чтобы меня заметили, но боль была ужасающей. Я потерял сознание. Когда я пришел в себя, надо мной, склонившись, стоял доктор. «Ты уже начал синеть», — сказала мама.
Мой шестой день рождения мы отмечали в Шчирке. Мама пригласила ко мне ребят. Они пришли рано, пока я все еще сидел на горшке. Я услышал, как мама спокойно объяснила им: «Ромек на троне». Мне хотелось сквозь землю провалиться вместе с горшком. Ну как она могла вот так меня предать? Я решительно отказался выйти. Мама сделала вид, будто слова «на троне» имеют совершенно другой смысл, будто это означает, что я сегодня король, ведь у меня день рождения. Она целую игру придумала на основе моего нового титула, но я ни в какую не желал присоединяться к остальным.
Краков со всех сторон окружен бульваром Платы. Когда-то на этом месте стояли городские стены. Однажды мы с отцом набрели там на торговца, продававшего картинки, на которых, если их сложить определенным образом лица четырех мужчин становились похожими на свинью. Судя по тому, что вокруг собралась небольшая толпа, дела у торговца шли отменно. Отец объяснил мне, что это карикатуры на Гитлера, Гиммлера, Геббельса и Геринга. Он рассказал мне, кто они такие и чем опасны для нас нацисты.
Эти имена стали звучать все чаще и чаще Напряжение росло, все боялись, что война неизбежна. По всему городу люди занимались новыми делами: в Плантах рыли траншеи, окна домов и витрины магазинов крест-накрест заклеивали бумагой. Мои родители часами совещались о чем-то, но меня на эти беседы не допускали. В конце концов отец решил отказаться от нашей квартиры на улице Коморовского и снять жилище в Варшаве, подальше от польско-немецкой границы. А пока мы должны были переехать к моей бабушке, которая жила вместе с двумя моими неженатыми дядьями Стефаном и Бернардом. Судя по всему, положение стало настолько серьезным, что безопаснее было собрать все семейство под одной крышей.
[...] Бабушку звали Мария. Я ее обожал. Роста она была совсем маленького, с пучком серых волос. Одевалась же обыкновенно в черное. Она настояла на том, чтобы отдать нам свою комнату, поэтому сама спала теперь на кухне. Вот здесь-то я и проводил большую часть времени, пока не пошел в нормальную школу. Я мог развлекаться там до бесконечности. Бабушка была всегда готова играть со мной и отвечать на беспрестанные вопросы. На кухне стоял большой резной буфет, весы, в которые можно было играть, банки с таинственными сиропами и домашними джемами. На подоконнике — маленькая баночка с водой, покрытая крышкой с вырезом. А на этой крышке рос боб. У боба с каждым днем вырастали все более и более длинные белые корни, которые будто жили своей жизнью наподобие некоего экзотического морского животного с щупальцами. Бабушка хотела показать мне, как растут овощи, но на меня это зрелище наводило ужас.
[...] Вся семья была в панике. Наш план на случай чрезвычайного положения был приведен в действие. Мама наспех сложила чемоданы и объявила, что повезет нас с Аннетт в Варшаву.
Поскольку все имущество нашей семьи находилось в Кракове, отец вместе с братьями решил задержаться и посмотреть, как пойдут дела. Моя бабушка-фаталистка отказалась трогаться с места — будь что будет.
Началась война. [...]
Я первый раз расстался с отцом и первый раз поехал на поезде ночью.
Какие-то пьяницы в вагоне третьего класса начали приставать к моей бледной, измученной матери. Тогда она доплатила за второй класс, и мы перебрались в другой вагон.
Отец полагал, что в Варшаве нам будет безопаснее. Наше новое обиталище оказалось недостроенным домом в пригороде. Там было так же чисто, как и в нашей квартире на улице Коморовского, но с одной существенной разницей: не считая складной кровати и матраса, там отсутствовала мебель. Едва ли это имело какое-то значение, потому что все ночи, а то и некоторые дни мы проводили в подвале.
Вой сирен, оповещавших о воздушном налете, заставлял жильцов опрометью бросаться вниз занимать места в бомбоубежище. Там царила полнейшая неразбериха: визжали малыши, ворчали старики, бились в истерике женщины. Дышать было нечем, было душно и жарко, поговаривали, что немцы скоро начнут применять отравляющие газы. Варшавянам выдали противогазы. А у переселенцев же вроде нас — лишь повязки, пропитанные каким-то вонючим веществом.
Настоящей пыткой в те ночи под землей для меня было то, что мне не разрешалось снимать ботинки. Мать боялась, как бы нам не пришлось спасаться бегством. Завороженный мерцанием свечи, я беспокойно спал у нее на руках, прижав к себе медвежонка, то просыпаясь, то вновь засыпая, пока не раздавался сигнал отбоя. Тогда все собирали противогазы и разбредались по комнатам, но через час или два, когда снова взвывали сирены, опять мчались вниз.
Воздушные налеты участились, а еда и деньги у нас были уже на исходе. От отца не было никаких вестей. Моя мать происходила из зажиточной русской семьи, и считалось, что она вышла замуж за человека ниже себя по положению. В Кракове у нее всегда была служанка. Однако теперь ей приходилось все делать самой, и, надо сказать, она оказалась на редкость изобретательна. Как и все, она бродила в поисках пищи и однажды вернулась с пакетом сахара, перемешанного пополам с грязью, потому что собрала его на улице с земли. Она растопила сахар и профильтровала его, чтобы очистить от грязи, а потом напекла целую гору вкусного печенья, часть которого мы продали, чтобы получить деньги.