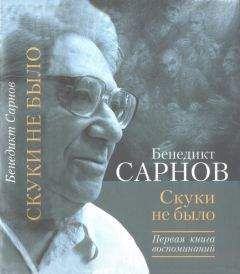Бенедикт Сарнов - Перестаньте удивляться! Непридуманные истории
Тут же, к слову, вспомнил и рассказ возившего меня таксиста, который раньше работал на грузовике. Выполненный план им считали не по числу сделанных ездок, и не по пройденному километражу, а по количеству израсходованного за рабочий день бензина. Поэтому часть бензина они сливали прямо на дорогу.
Была, кажется, в ответ рассказана еще какая-то история — в том же духе — Борисом. Потом — снова мною. Потом пошли другие рассказы, уже не про экономику, а продела писательские, литературные. Но и в них тоже открывалась все та же нелепая, фантасмагорическая, уродливая, смешная и грустная, уникальная наша советская реальность.
А потом Борис вдруг спросил:
— Сколько вы знаете таких историй?.. Сто?.. Двести?.. Триста?.. Пятьсот?
Вопрос был совершенно в его стиле. Один наш общий приятель любил пародировать эту его офицерско-комиссарскую манеру знаменитой репликой Остапа Бендера: «В каком полку служили?»
Слуцкий между тем требовательно ждал от меня ответа.
— Ну откуда же я знаю, Боря? — сказал я. — Разве я их считал? Вот вы расскажете что-нибудь, и тут же, как сказано у Льва Николаевича, по странной филиации идей, и у меня что-то всплывает. А так, по заказу, я, наверно, и десятка не припомню.
— Ну хорошо, — подытожил Борис. — Возьмем минимум: сто. И у меня, я думаю, набралось бы столько же. Если бы мы не поленились и все их записали, получилась бы недурная книжка. А озаглавить ее можно было бы так: «Занимательная диалектика».
И тут в его глазах, в выражении его лица промелькнуло что-то необыкновенно мне знакомое. Это было так неожиданно, что не сразу, а лишь какое-то мгновение спустя до меня дошло, что точно такое же выражение появлялось на лице моего отца, когда я — или кто-нибудь другой — рассказывал ему о каком-нибудь очередном нелепом, идиотическом факте нашей советской жизни, а он всякий раз отвечал на это одной и той же репликой:
— Перестаньте удивляться!
Этой классической фразой он как бы давал понять, что самая природа того, что в повседневной, обыденной нашей жизни именовалось советской властью, представлялось ему таким чудовищным отклонением от нормы, что никакое частное, конкретное безумие на фоне этого всеобщего, тотального безумия уже не может его удивить.
Но мой отец родился в 1892 году, революцию встретил взрослым человеком, поэтому нет ничего удивительного в том, что мир, созданный революцией, провозгласившей, что кто был ничем, тот станет всем, представляется ему перевернутым вверх тормашками.
Но Борис был не просто частицей этого нового мира. Он был плотью от его плоти. Именно этот мир должен был представляться — и представлялся! — ему самым полным и последовательным воплощением того, что он считал нормой.
Прекраснодушным идиотом он, конечно, не был. Но на протяжении всего нашего долголетнего — довольно близкого — знакомства, даже в очень откровенных, безусловно доверительных разговорах, он никогда не позволял себе и тени насмешки над идеалами. Он мог сколько угодно и как угодно глумиться над советской действительностью. Над Хрущевым. Над Сталиным. Но при одном единственном непременном условии: глумление это неизменно исходило из представления, что и Сталин, и Хрущев, и «ареопаг мудрейших» — «наш славный ленинский ЦК», да и сама коммунистическая партия — «ум, честь и совесть нашей эпохи», — что все это — не что иное, как искажение, извращение великого идеала.
Рассказывая (в стихах) о своем вступлении — на фронте, после боя — в коммунистическую партию, он заключил этот свой рассказ выводом:
Так я был принят в партию.
Где лгать нельзя и трусом быть нельзя.
Это означало:
— Вот в какую партию я вступал. Не в вашу нынешнюю, в которой удержаться могут только лгуны и трусы, состоять в которой — это значит ежедневно лгать и трусить, трусить и лгать.
Предложив озаглавить собрание рассказываемых нами друг другу историй ироническим словосочетанием «Занимательная диалектика», Борис — кажется, единственный раз за все время нашего многолетнего знакомства — приотодвинул на миг маску, скрывающую от посторонних глаз его истинное лицо. Ведь святое слово «диалектика» в этом контексте — это был камешек уже не в Хрущева, и не в Сталина, и не в советскую власть, а прямо и непосредственно в основоположников великого учения: вот, мол, полюбуйтесь, бородачи, каким бредом обернулась ваша хваленая диалектика.
Комические истории, на протяжении двух месяцев рассказываемые нами друг другу, эти исполненные черного юмора анекдоты в один миг вдруг открыли мне все уродство нашего советского бытия не как искажение, а как единственно возможное, закономерное и неизбежное воплощение пресловутой маркс-энгельсовской диалектики в реальность.
Но Слуцкий — скажете вы — вовсе ведь и не вкладывал в эту свою реплику такой глубокий, обобщающий смысл. Он ведь говорил не всерьез. Это была не мысль, а всего-навсего острота!
Да, конечно. Но ведь острота, как объяснял Фрейд, — это «внезапный разряд интеллектуального напряжения», неожиданный даже и для того, у кого она родилась, выплеск из бессознательного — в сознание.
В этой внезапно сорвавшейся у Бориса с языка остроте выплеснулось, я думаю, тайное, глубоко спрятанное, на протяжении многих лет тщательно вытесняемое в подсознание, подлинное отношение прославившегося своим «комиссарством» Слуцкого к его родной советской реальности.
Вот почему, решив на старости лет припомнить и записать некоторые из тех (а также и многих других) историй, отчасти моих собственных (то есть фиксирующих то, чему свидетелем был я сам), отчасти слышанных от других, а иной раз даже и вычитанных из книг, я долго не мог придумать для этого своего сочинения лучшего названия, чем то, которое ненароком сорвалось тогда с языка у Бориса. Однако, поразмыслив, я все-таки решил от этого названия отказаться и заменил его другим, более, как мне кажется, соответствующим сути моего замысла. Но в память о том, кто дал этому моему замыслу первый толчок, мне захотелось написать это коротенькое предисловие, сохранив хоть для него внезапно родившееся тогда заглавие.
Приступить к этой давно задуманной книге мне долго мешало отсутствие в ее замысле какого-то внутреннего стержня, который определил бы ее логику, ее внутреннее построение, ее композицию. Я все ждал, когда же он — этот стержень — появится. Но поскольку он так и не появлялся, в конце концов решил, что не стану думать ни о какой логике, ни о каком построении, ни о какой композиции, а просто буду записывать эти истории в том порядке, в каком они будут мне вспоминаться. И пусть они цепляются одна за другую — так, как они цеплялись тогда, когда мы с Борисом рассказывали их друг другу на еще не застекленной, всем ветрам открытой веранде коктебельской столовой тридцать с лишним лет тому назад.