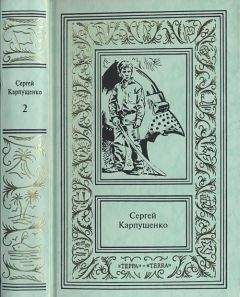А. Диесперов - Блаженный Иероним и его век
В общих чертах мы знаем эту последнюю: близкие сумерки средневековья (великое Gotterdammerung истории); разлагающийся Рим;
Закат звезды его кровавой,
и это сравнение Гоголя-профессора: "Империя была похожа на тысячелетний дуб, который изумляет своею страшною толщиною и которого средина давно уже обратилась в гниль и прах". Но в данном случае приходится обращаться к источникам более специальным и добывать детали, так как ими именно и определялось направление деятельности и писаний Иеронима. Мы остановимся на Аммиане Марцеллине и Августине. Марцеллину в особенности мы обязаны картинами нравов и быта IV века. И первое, что нас охватывает при чтении их, это — какое-то веяние над всей той эпохой одичания и смерти. Вообще, мнение о том, что варварство надвигалось на Рим только извне, оказывается ошибочным при ближайшем рассмотрении. По какому-то роковому закону смены состояний, тезы и антитезы, само общество римское, римская культура стали вырабатывать внутри себя разрушающие яды, и духовное варварство клало уже свою печать на весь облик Рима. "Немногие домы, раньше славные заботами о науках, теперь изобилуют только забавами лени, наполнены звуками пения и звоном струн. Место философа занял певец, место оратора — преподаватель сценического искусства, и в то время как библиотеки вечно закрыты наподобие гробниц, устраиваются только гидравлические органы, огромные лиры, видом похожие на колесницы, и сложные приборы для театральных представлений". Тот же Марцеллин упоминает между прочим, что в его время Ювенал и Марий Максим пользовались успехом даже у тех, кто не читали ничего другого и боялись "как отравы" каких бы то ни было "дисциплин". Это тяготение к сатире, вне всяких морализирующих соображений, является, пожалуй, тоже одним из характерных признаков упадочных эпох. Очевидно, едкость одного и напыщенность другого писателя были понятнее, более отвечали пресыщенному и притуплённому вкусу века.
Великие искусства древности, наравне со всем другим, также приходили в упадок. Когда понадобилось воздвигнуть триумфальную арку для Константина Великого, не нашлось ни одного художника, который осмелился бы взять на себя эту работу, и выход был найден несколько неожиданный: воспользовались аркою Траяна и новое архитектурное произведение возникло из обломков прежнего, как жалкое искажение высокого образца. Для украшения новосозданного Константинополя его творец принужден был вывозить классические мраморы Греции и малоазийских городов, и самая статуя Константина на вершине его колонны была не чем иным, как древним изваянием Аполлона с короной лучей на голове. Правда, процветало искусство балета, процветали особые, если можно так выразиться, "мимические" танцы, и знаменитый Вафиль, например, передавал в пляске "Юпитера с Ледой". Бутафория и механика балета стояли довольно высоко, — по крайней мере у Иеронима мы читаем такое сравнение: "Какая же это простота; это похоже на то, как если бы во время театральных чудес танцевать подвешенному по яйцам и колосьям".
К тому же и Восток оказывал свое влияние в большей степени, чем когда-либо прежде. Оттуда приходили новые культы, равно как и новые моды. Кричащая пестрота, грубость эстетических понятий водворялись всюду. Мы знаем успех появления новых туник, на которых изображались всевозможных родов животные. Вероятно, что-то варварское было в этих нарядах с вытканными на них зверинцами. Толпы евнухов — эта неизбежная принадлежность азиатских церемониалов — стали необходимыми в каждом знатном доме, и тот же историк замечает, что когда отправляется куда-нибудь кортеж богатой патрицианки, то за ней следуют целые отряды кастратов, старых и молодых, с поблекшими лицами, "вызывающих ненависть к памяти Семирамиды, которая первая из всех оскапливала нежных юношей, как бы насилуя природу и отвращая ее от предустановленного течения".
Относительно восточных культов мы имеем, между прочим, свидетельство Августина в его Confessiones. Римская знать, по его словам, с жадностью бросалась на новые, неведомые мистерии и с жаром принимала "чудовища всевозможных богов и лающего Анубиса, которые когда-то
Против Венеры, Минервы и моредержавца Нептуна Лук напрягали, грозя...
теперь же Рим молится этим, некогда побежденным им, богам". Наряду с этим распространялись суеверия, магия, астрология. Марцеллин говорит о своих современниках: "Многие отрицают богов на небесах, а сами боятся выйти из дому, позавтракать, взять ванну, прежде чем не справятся, где, положим, находится Меркурий или какую часть созвездия Рака закрывает луна".
Из Августина, который астрологов называет mathe-matici, мы узнаем, что даже для животных составлялись гороскопы.
В былое время Цицерон, негодуя, рассказывал в своих речах против Верреса, как этот последний, возлежа на носилках, заставлял носить себя повсюду, как он в домашнем костюме и сандалях принимал морской парад, как подушка на его походном ложе ежедневно набивалась свежими лепестками роз. Все это были черты непростительной изнеженности. Теперь ничем этим нельзя было бы удивить никого в Риме. Обличительно настроенный Марцеллин дает саркастическое изображение сенаторов-модерн. "Часть из них, если для осмотра имения или для охоты с помощью чужих рук сделали некоторый не ближний конец, уже думают, что их походы равняются Александровым или Цезаревым... И если, проскользнув между золоченых опахал, на шелковую полу одежды их сядет муха, или если отвесный луч солнца проникнет в дырочку зонтика — они жалуются, зачем они родились не среди Киммерийцев".
Любопытно, что порою эта изнеженность принимала такие формы, на которые мы в настоящее время не могли бы сетовать, но которые в ту эпоху вызывали горькие насмешки со стороны "старых Римлян". "Так как в столице мира больше чем где-либо свирепствуют болезни, для приостановки которых бывает бессильна всякая медицина, то изобретено целительное средство: именно, нужно прекращать сношения с другом, заболевшим чем-либо подобным, и в дополнение к этой невинной предосторожности присоединяется также и другая, более действительная: рабы, посланные осведомиться о здоровье заболевших знакомых, не допускаются в дом, пока не побывают в бане. Так страшна зараза, даже виденная чужими глазами".
Наряду с ростом этой рафинированности, мимозной чувствительности высших классов, шло их неудержимое стремление к широкой жизни, к легкой наживе, к эфемерной известности, покупаемой какими-нибудь из ряда вон выходящими тратами или другой эксцентричностью подобного же рода. За столом, равно как и во всем обиходе богатого римлянина, ценилось уже не качество того, что предлагалось к его услугам и для его удовольствия, а трудность и связанная с этим дороговизна получения той или другой редкости заграничного импорта. Это был век расточительного гурманства по преимуществу. Начиная с Августов, "для стола которых служил весь мир, и моря и земли несли дань свою", и дальше, вплоть до богатых клириков — все изощрялись в умении наслаждаться тонкими блюдами и добывать гастрономические неожиданности. В одном месте Иероним предупреждает свою корреспондентку: "Пусть будут дальше от стола твоего колхидские птицы, жирные горлинки, ионийские рябчики и все те пернатые, с которыми улетают самые обширные состояния". Да и вообще место изящества, изысканности, красоты быта заступила повсюду дорогая и тяжелая роскошь. "На одну нитку нанизываются достояния целых имений". Впрочем, о нарядах римских женщин речь будет впереди.