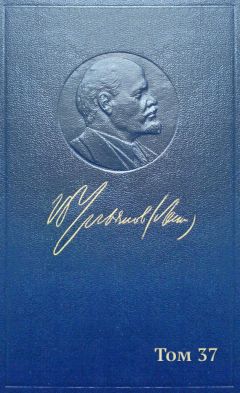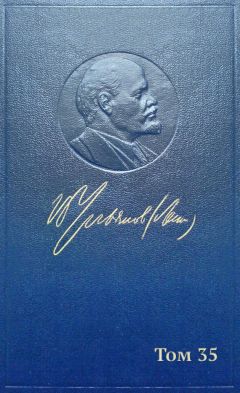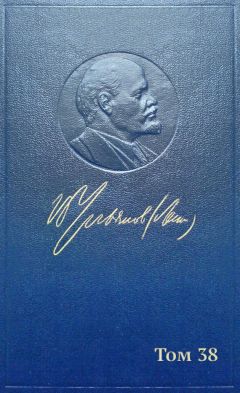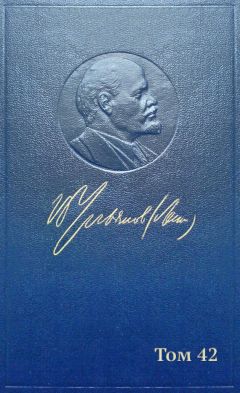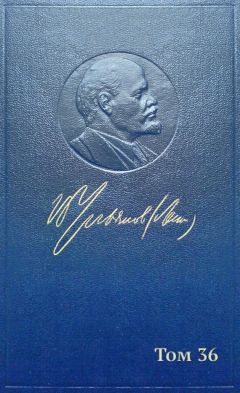Юрий Нагибин - До новой встречи, Аллан!
Подошла высокая, крепкая девушка и что-то требовательно, даже резко, сказала человеку на костылях — я все еще отказывался верить, что это и есть Аллан Маршал.
— Моя дочь, — сказал Маршал и с улыбкой добавил: — Одна из двух.
Кажется, то была старшая, Гепсиба, но не отдам голову на отсечение, что я не был представлен младшей, Дженнифер.
— Пойдемте за мой столик, — предложил я, все еще пребывая в тяжкой растерянности, потому что требовалось срочно переосмыслить многие представления, а я не был готов к такому душевному и умственному усилию. — Выпьем…
Гепсиба — но, может, Дженнифер? — обрушила на меня много австралийского диалекта, из которого я понял лишь, что пить вредно.
Аллан ничего не сказал, только пожал широкими плечами, бросил вперед костыли, шагнул им вслед живой левой ногой и подтянул бессильно болтающуюся, полностью парализованную правую. В поставе верхней половины туловища был приметен перекос — болезнь, называвшаяся в старину детским параличом, а сейчас полиомиелитом, затронула и позвоночник.
Историю своей болезни и преодоления ее Аллан Маршал с редкой откровенностью, простотой и достоинством описал в замечательной автобиографической трилогии: «Я умею прыгать через лужи», «Это трава», «В сердце моем». Первая повесть посвящена детству. Аллан родился крепким и здоровым мальчиком, его отец, объездчик лошадей, сказал: «Я сделаю из него бегуна и наездника. Клянусь богом, сделаю». Он не сделал из сына бегуна, а наездником тот действительно стал без чьей-либо помощи, и хорошим драчуном, и охотником, и рыболовом, и путешественником, и великим борцом за честь природы и человека; и одним из лучших австралийских писателей. Но когда Аллан, только что пошедший в школу, заболел детским параличом (эпидемия вспыхнула в штате Виктория и начале девятисотых годов), даже самые близкие люди считали, что резвому, любознательному, веселому мальчику предстоит отныне не жизнь, а прозябание. Иначе считал лишь сам больной. Привыкший с младенчества восхищаться лошадьми, совершеннейшим созданием бога, любивший собак и птиц, таких стремительных и быстрых, этот прикованный к больничной койке мальчик решил одолеть недуг, вернуть способность двигаться, более того, вновь научиться прыгать через лужу. Для этого надо было справиться с непослушным телом, с болью, страхом, с расслабляющими и бестактными соболезнованиями взрослых людей, с неверием в его силы даже тех, кто от всего сердца желал ему добра. Он принимал помощь, только если не было другого выхода и если помогавший не вкладывал в свой поступок ни грана жалости или — того хуже — снисхождения. Это перешло в его книгу: Аллан Маршал не хочет жалости от читателя, ему противны вздохи и слезы сочувствия.
Сейчас много пишут о ритме прозы, недавно вышло очередное исследование на эту тему. Что ж, ритм весьма важен в прозаическом произведении, претендующем на звание художественного, но, по-моему, куда важнее тон. У Аллана Маршала самое чарующее, покоряющее, возвышающее дух — это спокойный, чуждый самолюбования и позы, глубокий и чистый тон его прозы. Тон умного исследователя, который не боится заглядывать в темные закоулки человеческой психики, в глубины человеческой боли, не боится говорить о скорбном, ущербном в человеке, но так, что читатель испытывает не жалость, не расслабляющее и бессильное сочувствие, а все растущее уважение к безграничной мощи человеческого духа.
Неторопливо, обстоятельно и благожелательно говорит он о своих соседях по палате, о нянечках и медицинских сестрах, людях вполне дюжинных, не умеющих, да и не пытающихся щадить тонкую психику маленького калеки; описывает пору жестоких мучительств, проделываемых над его плотью с самыми лучшими намерениями, тщетные надежды на возвращение здоровья, затем постижение своей участи: придется жить с «хорошей» (полупарализованной) ногой, «плохой» (висящей плетью), искривленной спиной — и обучение этой новой, неудобной, утомительной и все равно прекрасной жизни. Маленький Аллан никогда не плакал во время своих частых и болезненных падений при освоении костыльного передвижения. Не позволяет он рассиропиться и читателям. Он вызывает их на сопереживание, а не на слезный дым. Идешь с ним шаг за шагом по всему его крестному пути и страстно желаешь, чтобы он выполнил очередной, предписанный самому себе урок — одолеть кручу, добраться до далекой изгороди, влезть на спину брыкливого пони, проскакать на нем, — да, настанет день, и Аллан промчится мимо своего отца и услышит скупую похвалу этого сдержанного человека, — проникнуть в кратер погасшего вулкана, принять участие в охоте с гончими, одолеть в драке на дубинках обидчика. Лишь через лужу так и не прыгнет Аллан, но это и неважно, ведь он умеет прыгать через лужи, он умеет куда большее.
Если бы Маршал писал о своей детской страде с оттенком скромной горделивости, или зажав в горле крик боли, или даже с некоторой ожесточенностью, все равно никому не вспало бы бросить в него критический камень. Мы были бы признательны ему за описание беспримерной и поучительной судьбы. Но то, что он сумел говорить о себе почти со стороны, не с юмором, конечно, для этого у него слишком хороший вкус, а с легкой, чуть напрягающей уголки рта улыбкой, с полным доверием к слуху и постигающему аппарату своих слушателей и потому негромко, — создает неповторимый, серебряный, завораживающий тон его книги, не просто хорошей, а исключительной.
Но тогда я еще не читал автобиографической трилогии, рассуждали же мы об охоте, рыбалке, путешествиях, а не о болезнях и литературе. Весьма смутно представляя себе картину постигшей его в детстве беды, а также характер Аллана, я вел себя экзальтированно, умиленно, словом, сопливо. Но Аллан отнесся на редкость снисходительно к моему бездарному поведению. Может быть, меня спасло, что он тоже выпил лишний стаканчик. В конце концов Гепсиба — или все-таки Дженнифер? — потребовала, чтоб мы кончали охотничий треп — отцу пора спать. Я высказал горячее желание отнести его на руках в такси. Аллан со смехом отверг любезное предложение и помог мне добраться до машины.
Самое удивительное — я не вызвал в нем отвращения. Это подтвердилось и авторитетным свидетельством Оксаны Кругерской, и присланной им из Австралии книгой рассказов с очень доброй надписью, а через годы — встречей в Мельбурне, где Аллан живет с юности. После окончания школы ему пришлось покинуть любимые заросли, кроликов, опоссумов, птиц и перебраться во второй по величине город Австралии для продолжения учебы и работы.
Но до того как мы встретились в мельбурнском доме Аллана, я познакомился с его книгами — и автобиографической трилогией, и чудесными маленькими рассказами, которые читал по-русски и в подлиннике. В переводе язык Аллана кажется простым, прозрачным и ясным, но читать его по-английски человеку со средней подготовкой очень трудно. Мне несравнимо легче давались многие современные авторы, обладающие значительно более усложненной и громоздкой фразой, нежели у Аллана. Австралийский — это все-таки диалект, к тому же Маршал щедро пользуется сленгом и специальной терминологией, связанной с охотой, объездкой лошадей, сельским хозяйством.