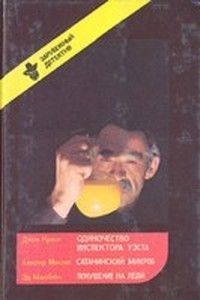Эммануил Казакевич - Из дневников и записных книжек
(К РОМАНУ "ВЕСНА НА ОДЕРЕ")
Унизительная дрожь перед начальством (чувство Кекушева) и поэтому — в качестве компенсации — желание вызвать эту же дрожь у подчиненных.
_____
Для того, чтобы быть чем-то для кого-нибудь, надо быть чем-то и для себя самого. Надо верить в себя и надеяться на себя, только тогда можно понадеяться на других.
_____
Этот человек — вроде английской транскрипции: читается совсем не то, что пишется.
(2-я половина июня 1948 г.)
Не убили ли популярность, всеобщее признание и далеко идущие надежды людей на меня мою поэзию — робкий цветок, только изредка высовывающий благоуханную голову из-под сумятицы временных и скоропреходящих слов? Я словно опустошен. "Оправдать надежду" — не значит ли это уже превращение во многом стихийного творческого процесса в сознательное ремесло? Тут нужны огромные творческие силы и мужество, чтобы стать выше всего и идти своей дорогой в одиночестве. А ведь путника тянет на огонек, на теплый очаг и ласковое слово. А цель так далека, так неверна, и неизвестно существует ли она вообще и станет ли сил, чтобы дойти. А не дойти хоть на сантиметр — это все равно, что не начинать вовсе свой путь.
За окном дождь, а в Москве 36° жары.
"Крик о помощи" — повесть о гетто, но о гетто с точки зрения русского человека, советского офицера.
Это умница, мудрый разведчик, тайный поэт.
13.9.48 г., Одесса.
Конечно, это превосходный город. И не внешностью своей, хотя и она хороша. И даже не морем, которое здесь очень сужено мысом и разными портовыми сооружениями. Хороша Одесса своими людьми. Они жизнерадостны, на улицах многие смеются, старые и молодые. Одеты просто, но хорошо, прилично. (…) Южный огонек, темперамент, услужливость, разговорчивость, отменная вежливость — здесь достояние всего народа. Хмурая замкнутость севера тут не в почете. В этом — облик этого города, созданного французом и обжитого южанами (…)
(Октябрь 1948 г., с. Казацкое.)
Нужно твердо усвоить, что «Звезда» и "Двое в степи" хороши только на фоне нынешней литературы, а так это вещи средние, даже — строго говоря слабые. Я ничего еще не сделал, и моя некоторая популярность среди читающей публики основана только на том, что другие вещи — еще хуже. Необходимо это понять твердо и искренне, иначе мне угрожает столь распространенный теперь в литературе маразм. Во мне есть многое из того материала, который может составить крупного писателя: любовь к людям, страстность, такт. Но еще многого нет. Надо трудиться, трудиться без устали, самозабвенно, с энергией Наполеона или Гракхов — на почве литературы. Тогда может что-нибудь выйти. И надо жить с народом, среди народа. Не дай бог отяжелеть.
29.12.1948 г.
Кончается 1948 год, через два дня наступит новый. Мой годовой план далеко недовыполнен: даже роман не закончен, а пьеса только начата, и две маленьких повести существуют только в голове. Однако год был не малого для меня значения. «Двое», вопреки надеждам, поставили меня в положение неприятное — не для самолюбия, оно тешилось немало, — для материального благополучия, которое нужно, чтобы завершить роман. И эта история научила меня ожидать всего, а без этого нельзя писать. Она измотала нервы, но укрепила характер. Роман я начал перерабатывать до критики «Двоих», и сделал это не для того, чтобы приспособить Лубенцова к критике, а для того, чтобы сделать его лучше. Он имел хороший, сильный, музыкальный ритм, но не имел ритма жизни. Толстой чем силен? Кроме прочего, тем, что овладел в своих писаниях ритмом жизни. В жизни есть более и менее важное: писатель, описывающий только менее важное, — бульварный беллетрист. Писатель, описывающий только более важное, — обманщик: он искажает жизнь. Он берет ее в главных чертах, а жизнь нельзя брать только в главных чертах. Во-первых, рискуешь ошибиться, приняв за главное не очень главное. Во-вторых — авторский произвол в выборе главных черт, как и всякий произвол, не соответствует течению жизни. Создает ритм, но это не жизненный ритм, а ритм литературный, олитературенный, ритм Гюго, а не ритм Толстого. Первый тоже законен или — вернее — узаконен в литературе. Но это — устарело, это не завтра, а вчера. Опоэтизировать обыкновенное, а не выискивать среди обыкновенного поэтичное — вот, кажется мне, верный путь, который я назову путем Толстого (Стендаля и некоторых других).
В первом варианте я опускал второстепенное. Этого делать нельзя, это нарушает ритм жизни, в которой нет второстепенного.
Моя работа над новым вариантом — поиски второстепенного, подробностей, искание ритма жизни.
Первый вариант был как воздушный шар, наполненный недостаточным количеством газа. Да, он не влачился по земле, но и не мог улететь далеко от земли. Он находился от земли метрах в трех, в четырех. Это не полет. Я наполняю этот шар газом — жизненными подробностями. Понемногу он получает округлую, сферическую форму, форму жизни и, надо надеяться, полетит. Не совсем только ясно, что это за шар — детский шарик или настоящая махина. Но это уже от меня не зависит — это талант.
При этом может не раз оказаться, что это второстепенное и является главным, а бывшее главное отходит на второй план. Тем лучше — значит, станет сильнее и то, и другое.
Если говорить о влиянии критики «Двоих» на работу над романом, то оно выразилось только в том, что я больше сомневаюсь, а значит, и больше мучаюсь, тружусь, борюсь с материалом. Ergo — влияние положительное в конечном счете. И любовь ко мне читателей, и настороженность руководителей имеют одно следствие: страстное мое желание, оставаясь самим собой, остаться своим и для тех и для других. Посмотрим в дальнейшем, возможно ли это? Уверен, что возможно, нужно и так оно будет.
(К РОМАНУ "ВЕСНА НА ОДЕРЕ")
Лубенцов — активная ненависть к человеческому злу и к недостаткам, нетерпимость к ним, олицетворяющая молодость строя. Он не дошел (и, может быть, слава богу, не дойдет) до расслабляющего философствования насчет невозможности бороться с этим: основа — позитивная философия, вера во всесильность науки и человеческой воли, немножко наивная вера.
_____
Садясь за стол, Сердюк сказал, улыбнувшись:
— У меня в роте столько же народу, сколько христовых апостолов, только, слава богу, нам сегодня обещают дать пополнение.
Ему вдруг стало жгуче-радостно от того, что его артиллеристы узнали его, и от того, что им наплевать на то, еврей он, или таджик, или русский — он был просто их товарищ, ставший их командиром потому, что знал больше, чем они. И от этого неожиданного, ни разу так ясно не пережитого чувства равенства он радостно задрожал, как может радостно задрожать (затрепетать) рыба, брошенная с песчаного берега в прохладную реку.