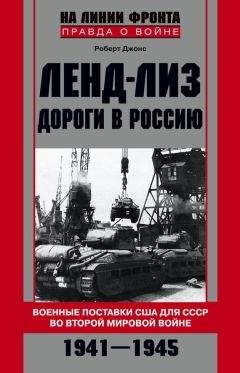Владимир Печерин - Замогильные записки
Современный читатель отметит в этой страстной тираде не только отголосок общих смутно-социалистических идей, но и указание на «возмущение работников», как на «зародыш предстоящего преобразования общества». С большей силой и подъемом выразил Печерин революционное отрицание старого мира и в написанной в то же время стихотворной поэме «Торжество смерти». Лишенная какой-либо определенной историко-философской основы, поэма представляет собой красноречивый гимн в честь насильственного и беспощадного разрушения мира рабства и лжи. Аллегорическая поэма кончается апофеозом смерти, — «богу свободы, богу движения, вечного преображения» —
Ветхое, ничтожное,
Слабое и ложное
Пред тобой падет!
Вольное, младое,
Творчески-живое
Смертью расцветет!
— и восклицанием:
«Vive la mort! vive la mort! vive la mort!»
(«Да здравствует смерть!»).
Поэма Печерина, пересланная им в Россию, пользовалась в свое время широким распространением (разумеется, в качестве литературы подпольной) и производила большое впечатление… Когда уже в 1870 г. Достоевскому, в его направленном против революционеров романе «Бесы», понадобился образчик «бессмысленных мечтаний» революционной интеллигенции, он вспомнил именно о поэме Печерина и пародировал ее в целях осмеяния социальных и богоборческих тенденций революционеров 40-х годов.
Естественно, что при этих настроениях у Печерина должен был возникнуть вопрос о возвращении в Россию. В цитированном выше письме он писал:
«Вопрос один: быть или не быть? Как! жить в такой стране, где все твои силы душевные будут навеки скованы — что я говорю, скованы! — нет: безжалостно задушены — жить в такой земле не есть ли самоубийство? Мое отечество там, где живет моя вера!».
Насколько мне известно, мысль о добровольной эмиграции из царской России была выражена в этих словах 1834 г. впервые так ясно и определенно. Через «несколько месяцев Печерин писал своим друзьям в Россию:
«Я надеюсь, что бог, в бесконечном милосердии своем, не даст мне скоро увидеть бесплодных полей моей безнадежной родины».
Тогда же из-под пера Печерина вышли такие строки:
Как сладостно — отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья!
И в разрушении отчизны видеть
Всемирную денницу возрожденья!
(Я этим набожных господ обидеть
Не думал: всяк свое имеет мненье.
Любить? — любить умеет всякий нищий,
А ненависть — сердец могучих пища!)
В середине 1835 г. Печерин вернулся в Россию с определенной мыслью — бежать из нее при первой возможности. Встретившийся с ним в Петербурге, его старый университетский товарищ записал тогда в своем дневнике о группе возвратившихся молодых профессоров:
«Они отвыкли от России и тяготятся мыслью, что должны навсегда прозябать в этом царстве крепостного рабства. Особенно мрачен Печерин».
В июне 1836 г. Печерин бежал из России — с тем, чтобы больше в нее уже не возвращаться. Это был год появления «Ревизора» и «Философического письма» Чаадаева. Герцен и Огарев были уже в ссылке.
Причин своего бегства Печерин неоднократно касается в печатаемых записках. В концентрированном виде он изложил их в письме к другу, которое необходимо прочесть раньше, чем приступить к последним. Вот оно:
«Ты хорошо понимаешь, что не слепой случай, а определенная политическая цель привела меня в Лугано. Какая же цель? Для этого надобно возвратиться назад, к концу 1833 года.
До тех пор у меня не было никаких политических убеждений, да и никаких убеждений вообще. Был у меня какой-то пошленький либерализм, желание пошуметь немножко и потом, со временем, попасть в будущую палату депутатов конституционной России. — далее мысли мои не шли. В конце 1833 года вышла в свет брошюрка Ламеннэ «Paroles d'un croyant», наделавшая тогда много шуму. Это было просто произведение сумасшедшего, но для меня она была откровением нового евангелия. «Вот», думал я, «вот она, та новая вера, которой суждено обновить дряхлую Европу! Эти великодушные республиканцы, которых теперь влекут перед судилища новых Иродов и Пилатов, это те же святые мученики и апостолы первобытной церкви. Присоединиться к их доблестному сонму, разделять их труды и опасности и пожертвовать жизнию святому делу, — вот благородная, возвышенная цель». Политика стала для меня религиею и вот ее формула: «Аллах у Аллах! у Махомед росул Аллах!» Понимаешь? Это значит: Республика есть республика и Маццини ее пророк!
Первое мое путешествие в Швейцарию и Италию (1833) было чисто русское, то-есть без всякой разумной цели, так просто посмотреть да погулять… На следующий год я путешествовал один и уже с определенной целью сблизиться с республиканцами. Из этого тогда ничего не вышло, но намерение все же таки было. Я возвращался в Россию (1835), как агнец, влекомый на заклание, с ужасною тоскою, с глубоким отчаянием, но вместе с тем с искреннею решимостью убежать при первом благоприятном случае. Я жил в Москве ужасным скрягою, часто отказывал себе в обеде и питался черным хлебом и оливами, для того чтоб накопить несколько денег.
Ты думаешь, что я оставил Россию так просто, очертя голову, без всякого плана? Ты ошибаешься. Все было обдумано, взвешено и рассчитано до последней копейки…
По трем причинам мне невозможно было оставаться в России:
1-ая. Религия. Идти говеть по указу и причащаться св. тайн без веры и с кощунством? До этого я не мог унизиться: мне это казалось первою подлостью и началом всех прочих подлостей. На первый год оно сошло бы с рук; но впоследствии мое отсутствие было бы замечено, и я был бы принужден подчиниться этому обряду.
2-ая. Профессорство. Профессорство в России невозможно, и я, правду сказать, никакого к нему призвания не имел. Может быть, в Петербурге я мог бы ужиться как-нибудь; но разгульная Москва с ее вечными обедами, пирушками, вечеринками и беспрестанною болтовнею, вовсе не шла к тому строгому и грустному настроению, с каким я возвращался из-за границы. Одна московская дама, с обыкновенною женскою проницательностью, заметила обо мне: Il a le mal du pays, что тогда значило: «у него тоска по загранице».
3-я. Литература. В письме из России, один весьма почтенный господин писал ко мне: «Je ferai tout ce qui dépandra de moi pour vous rendre á la carriére des belles lettres, á la quelle vous pouvez être utile».[1]
В этом то я и сомневался. Я беспристрастно аршином измерял свой талант до последнего вершка. Я очень хорошо понимал, что в тогдашней России, где невозможно было ни говорить, ни писать, ни мыслить, где даже высшего разряда умы чахли и неминуемо гибли под нестерпимым гнетом, — в тогдашней России, с моей долею способностей, я далеко бы не ушел. Я скоро бы исписался и сделался бы мелким пошленьким писателем со всеми его низкими слабостями, — а на это я никак согласиться не мог. По мне: aut Caesar, aut nihil, или пан, или пропал.