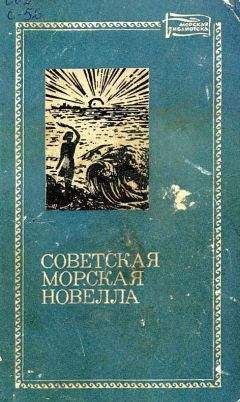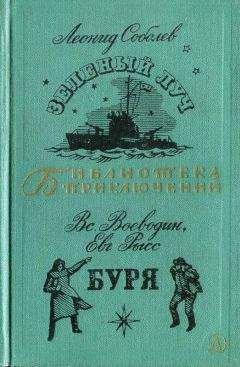Семен Соболев - Исповедь
Родился я поздней ненастной слякотной осенью. И жизнь моя на земле начиналась, как разгораются мокрые дрова в печке: дымят, шипят, а ни тепла, ни света. И где-то месяца через полтора-два, как рассказывали потом бабушки, совсем уж собрался отдать богу душу. Спасло, видно, то, что в те времена не было современного множества болезней, которые в нас открывают теперь доктора. Тогда было всего одно болезненное состояние: "захворал" и выхода из этого состояния было всего два - "поправился" или "помер". Ни врача, ни фельдшера ближе сорока верст не было, и всех болящих пользовали деревенские бабки. И когда я уже дышал на ладан, консилиум их, ссылаясь на мою невообразимую худобу, порешил, что у меня приключилась хворь под экзотическим названием "собачья старость". А раз собачья старость, то надо ее и изгонять известным способом. И вот натопили бабки баню по-черному, притащили меня туда, туда же приволокли заблудящего щенка, разложили нас на полке, наподдавали пару, и начали нас, чередуя удары, охаживать березовым веником: то по мне, то по щенку, то по мне, то по щенку...
Я полагаю, что жара была несусветная, мокрые и косматые бабки страшны, и кто из нас громче орал - я или щенок, тому уже нет свидетелей. Дранье это веником должно было продолжаться по неписаным бабкиным лечебникам до тех пор, пока кто-то из нас не окачурится. И хотя худ я был, однако моя взяла щенок сдох, а я выжил. И видно с душой его, переселившейся в меня, вошла в меня на всю оставшуюся жизнь и собачья привязанность к близким мне людям.
Подрастал я все таким же тонким и очень стеснительным. Мой младший братик Кузя был более общительный и бойкий. На призыв отца он подбегал к нему, тот сажал его на нашего смирного коня Рыжку, где он восседал, уцепившись, как клещ, в гриву. Отец был доволен и восклицал:
- Во, мой сын! Весь в меня...
Он и в самом деле, как две капли воды, походил на отца. Когда же отец звал меня, я либо стоял, потупившись, либо жался к маме.
- Э-э-э, мамся, - корил меня отец, - ничего из тебя не выйдет.
И однажды в такую минуту, будучи слегка под шафе, шлепнул меня слегка по попе и подтолкнул в направлении стоявшей тут же мамы. Шлепок этот был всего лишь прикосновением, и боли я не ощутил даже, но как долго в моей детской душе тлела обида на него - ведь это было на глазах всей моей семьи.
Однако когда же я начал сознавать себя в этом мире? Года в два.
Первый раз я остался совершенно один. Был жаркий июльский день. Отец уехал на заимку, Ваня убежал на озеро с ребятишками, мама с моей сестренкой ушла за избу в огород, а я, прихворнувший, уснул. Проснувшись, я обнаружил, что лежу на маминой кровати, в избе никого нет, двери в сени открыты, но дверь во двор заперта. Окна завешаны плотными шалями. Это чтобы в темноте меня не донимали мухи. Лишь маленький лучик, пробиваясь из-под шали, чуть-чуть освещал куть. Мне стало бесконечно жалко себя, разморенного и сном, и хворью, и одиночеством. Чувство заброшенности подчеркивалось редкими поскрипываниями сверчка, обманутого темнотой, и поцвиркивающего за печкой, да бесконечным жужжанием большой мухи, бившейся о стекло. Я было хотел уже зашмыгать носом, но скрипнула дверь и, тихо ступая босыми ногами, вошла мама. Она потрогала мой лоб ладонью, пахнущей землей, солнцем и огородными травами.
- Проснулся, сынок? Давай я тебя умою и покормлю.
Прикосновение маминых рук... Что может сравниться с ними? Они снимают все страхи, все обиды, все боли. Это они делают окружающий мир таким добрым и безопасным - мамины руки.
Они запомнились мне еще одним случаем. Было лето, я, будучи уже большим, года в три-четыре, бегал по лугу перед нашим двором со своим сверстником Митькой Ситниковым, жившим от нас через два двора, мы с ним там всегда бегали после обеда. До обеда там паслись гуси, и ходить туда в это время мы побаивались. Старые гусаки и гусыни с гусятами, охраняя свое стадо, гонялись за нами и, если догоняли, то больно щипали за ноги. А к полудню, напасшись на траве, гуси вдруг с гоготом срывались и летели к озеру, где и плавали там до самого вечера. Вот в эту пору лужок был уже наш. Мы с Митькой ползали там, искали кандык и ели его, и ничего в этот миг не было вкуснее этого кандыка. Мама моя в эту пору принялась шить мне рубашку. Машинки швейной у нее не было, шила она иглой на руках, кроила, как бог на душу пошлет, поэтому шила медленно и долго, часто окликая меня, чтобы я прибежал на примерку. Я прибегал с лужка, становился перед мамой в ожидании ее волшебных прикосновений. Мама набрасывала на меня кое-где схваченные куски материи, прикладывала их на мне руками, приглаживала, подтягивала, поправляла. Прикосновения ее рук были легкими, едва ощутимыми, она что-то приговаривала про себя, а все мое маленькое тельце обволакивала какая-то блаженная аура, сердечко мое замирало от счастья, по спине к затылку ползли мурашки и волосики на голове от блаженного напряжения вставали дыбом. Я почти терял сознание от неизмеримого счастья. Но в это время, уже прикинув, что к чему, мама снимала с меня недошитую рубашку и ласково говорила:
- Иди, играй...
А я не мог сдвинуться с места, пытаясь продлить этот миг счастливейшего блаженства,
- Иди, иди, я тебя еще позову, - говорила мама, и я убегал на свой лужок к Митьке.
Вот так однажды, играя на лужке с Митькой, мы завозились с ним, я повалил его и сел на него верхом.
- Эй, вы, абсатары! - услышал я окрик отца, выезжавшего на телеге со двора. Он всегда кричал нам это свое "абсатары", когда между нами начиналась слишком бойкая возня, что это означало, мы не знали, но тут же утихали. На этот раз, услышав окрик отца, я бросился к дороге, рассчитывая, что он возьмет меня на заимку, где я еще ни разу не был. Но отец крикнул, чтобы я шел домой, и подхлестнул лошадь. Я прибавил резвости и пустился следом, думая, что подальше от дома он все-таки возьмет меня. И отъехав уже изрядно, отец вдруг действительно остановил лошадь. Я с радостью, запыхавшись, подбежал к телеге, уже воображая, как далеко сейчас прокачусь. Но каково же было мое разочарование, когда отец взял меня за плечики, круто повернул лицом к дому, шлепнул по попке, а сам сел в телегу и покатил дальше один. Я заревел не от боли, а от обиды, и поплелся к дому, контуры которого расплывались в моих слезах. Однако впереди маячил Митька, я прекратил рев, чтобы потом не задразнили плаксой.
Детское сердечко мое инстинктивно тянулось к старшим: к отцу, к маме, к братику Ване в ожидании ласки. Однажды, набегавшись по лужку, весь прогретый солнцем, я вбежал в прохладную избу и в полумраке заметил отца, отдыхавшего на кровати. Я подошел к нему, прижался бочком к кровати и, потупившись, стоял молча.
- Наигрался? - улыбнувшись одними глазами, спросил он, а сам положил свою руку на мою стриженую голову и, пошевеливая пальцем, долго поглаживал вставшие вдруг ежиком мои волосы. Так почесывают за ухом, лаская, собаку. Так скупо ласкал в ту минуту меня отец. Что значила для меня эта минута, можно только представить. С той минуты прошло уже более семи десятков лет, уже полвека нету на земле моего отца, а я все еще помню этот счастливый миг моего детства. Эти редкие отцовские ласки я объясняю не его суровостью, а постоянной занятостью крестьянской работой. Семья уже в ту пору состояла из шести человек. Ее надо было кормить, одевать, а жила она только за счет натурального хозяйства. И сколько я помню в ту пору, отец еще затемно, до свету, уезжал то на заимку, на пашню, то на сенокос, то возил хлеб с поля, то сено, то ездил в лес за дровами, и возвращался домой только к закату солнышка, а то и совсем уже ночью.