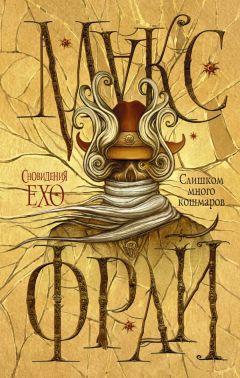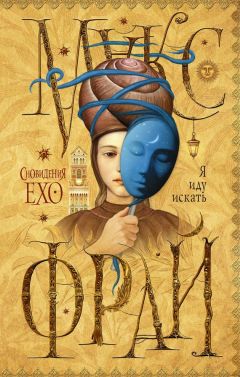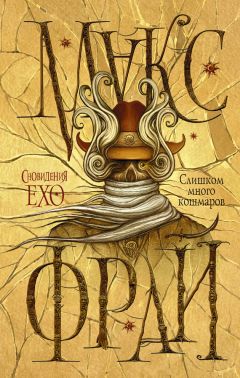Анна Тимофеева-Егорова - Держись, сестренка!
Шагаем по Москве. Вася одной рукой тянет меня, в другой несет корзинку с моими пожитками. Я упираюсь, останавливаюсь, ошеломленная страшным шумом — стуком колес по булыжной мостовой от телег ломовых извозчиков, звонками трамваев, гудками паровозов — и удивленная великолепием трех вокзалов Каланчевской площади.
Особенно приглянулся мне Казанский вокзал — с высокой башней, удивительными часами на ней. Я никогда не видела таких высоких и красивых зданий — разве только во сне, да еще церкви в Торжке. В солнечный день, выйдя за деревню — а у нас там начинается Валдайская возвышенность, — мы любовались сиянием множества золоченых крестов торжокских соборов, которых насчитывалось более сорока. А вот трамваев, столько спешащих куда-то людей в свои двенадцать лет я никогда не видела.
— А куда это парод-то бежит? — спрашиваю у брата. Вася смотрит на меня, улыбается и говорит:
— По своим делам.
Я удивленно думаю: что это у них за дела такие? Я вот еду без дела, так. А может быть, и не без дела?..
Маме было очень трудно после смерти отца прокормить нас. Меня решили определить в Торжке. В школу золотошвеек. Привезли туда, но оказалось, что не подхожу по возрасту. Мама упросила начальницу принять меня условно и уехала. Прожила я в школе одну неделю и запросилась домой. Не потому, что заскучала или не нравилось мне шитье золотом. В школе было очень интересно. Учились одни девочки. Преподаватели — важные дамы-учительницы рассказывали нам о золотошвейном мастерстве — удивительном народном искусстве, которым Торжок славился с древних промен, а завезли его сюда не то из какой-то Ассирии или Вавилона, не то из Византии. Интересно было видеть красивые вещи, шитые золотом, за стеклами школьного шкафа.
Вечерами, помню, нас парами вводили в большой зал, где стоял рояль. Старая дама в пенсне садилась за инструмент, играла, а мы хором тянули: «И мой всегда, и мой везде, и мой сурок со мною…» «И что это за зверюшка такая?»– засыпая, думала я. А через неделю запросилась домой, потому что поняла — не смогу сидеть целыми днями над шитьем, поняла своим детским умом, что к такому искусству надо иметь еще и призвание.
Словом, старший брат решил взять меня к себе в Москву, а сестренку Зину увезли н родственникам в Ленинград.
…В вагоне трамвая мне страшно, особенно когда с грохотом проносится мимо встречный вагон. Я даже глаза зажмуриваю, цепляясь обеими руками за брата.
— Сухаревский рынок, — объявляет кондуктор.
Брат подталкивает меня:
— Смотри, смотри вправо. Видишь, посреди улицы высокий дом с часами?
— Вижу.
— Это Сухаревская башня. В верхних этажах ее раньше помещались большие баки водопровода, снабжавшие Москву водой.
— А почему она Сухаревой называется? — спрашиваю робко.
— Тут уж история! — смеется Василий. — Ты слышала что-нибудь про царя Петра Первого и стрельцов?
— Нет. Зачем мне про царей знать да каких-то там стрельцов?
— Так вот. Отвечаю на твой вопрос. Сухаревой эта башня называется в честь стрелецкого полковника Сухарева. Он — единственный, кто со своим полком остался верен царю Петру во время стрелецкого бунта.
— А почему здесь базар устроили? — не унимаюсь я.
— А ты слышала о войне 1812 года?
— Это когда французы Москву сожгли?
— Ну, допустим… — Мой брат терпелив. Он готов отвечать на тысячи моих вопросов. — Так вот, после войны с французами, после пожара Москвы жители города стали возвращаться домой и разыскивать свое разграбленное имущество. Генерал-губернатор издал приказ, в котором объявил, что все вещи, откуда бы они взяты ни были, являются собственностью того, кто в данный момент ими владеет, и что всякий владелец может их продавать, но только раз в неделю, в воскресенье, на площади против Сухаревой башни.
Уже давно кондуктор трамвая прокричал: «Са-мо-те-ека», «Каретный ря-ад», еще какие-то интересные названия остановок. Мы уже два раза пересаживались с трамвая на трамвай, а Василий все рассказывал и рассказывал, и мне кажется, что все пассажиры его слушают с вниманием, и я мысленно горжусь своим старшим братом.
— Кра-а-а-сная Пре-е-сня,-протяжно кричит кондуктор, и тут Василий говорит:
— Вот и приехали.
По дороге к Курбатовскому переулку, где брат живет с семьей, он рассказывает мне о событиях 1905 года, о том, как рабочие Пресни во главе с большевиками забаррикадировали улицы и героически сражались с царскими войсками и жандармами. Брат показывает улицу под названием «Шмитовский проезд», названную так в честь студента Московского университета, владельца мебельной фабрики Ни — копая Павловича Шмита. Его фабрика во время Декабрьского вооруженного восстания стала бастионом революции на Пресне, а он сам — активным участником событий. После подавления восстания Шмита заключили в Бутырскую тюрьму и там убили. Все свое состояние Шмит завещал большевикам.
Брат что-то еще рассказывал и показывал, но я уже плохо слушала, терев заплаканные глаза. Мне было жалко Шмита, жалко погибших рабочих. А тут еще вспомнила тихую нашу деревню Володово, затерянную в лесах между Осташковом и древним Торжком, маму, подружек, с которыми так весело было играть, и еще пуще заревела. Чтобы меня успокоить, Василий купил в одном из лотков Моссельпрома, которые попадались на каждом шагу, длиннющую конфету в красивой яркой витой обертке с кистями, но и это меня не утешило. Тогда он стал расспрашивать о доме, о матери, о братьях.
— Как папа умер, — всхлипывая и размазывая по лицу слезы, принялась рассказывать я, — мама стала часто болеть, плакать и молиться богу. Она и нас стала заставлять ходить в церковь, молиться, когда садились за стол. Зина с Костей хитрые — крестятся и на маму смотрят. А я так не могу, обязательно на икону взгляну.
— А почему тебе нельзя на икону смотреть?
— Да я ведь пионерка, крестный! Ты что, не видишь разве — на мне галстук пионерский?
Брат впервые внимательно оглядел меня.
У меня действительно был линялый-прелинялый галстук, выглядывавший из-под воротника пальтишка с заплатами. На ногах — яловые полусапожки с резинками, сшитые маминым братом дядей Мишей. На голове платок, а из-под него торчат две косички с бантиками из тряпочек.
— Галстук пионерский мне сшила из старой кофточки сестра Маня, моя крестная, — похвалилась я, и тут брат заметил:
— Ты меня, пожалуйста, крестным-то не зови, я ведь коммунист, депутат Моссовета…
Так, разговаривая, мы дошли до дому.
В семье брата мне было хорошо, особенно от теплых ручек годовалого Юрки. Он не отпускал меня ни днем ни ночью, а если случалось, что меня не оказывалось рядом, начинал так реветь, что будил всех в квартире.
В школу я не ходила, так как опоздала на два месяца. Гуляла с Юркой, с ребятами из нашего двора по Курбатовскому переулку. Помогала по дому, бегала в магазин за хлебом. Как-то послали нас с Томкой, подружкой, жившей этажом ниже, за керосином на Малую Грузинскую улицу. Но вместо керосиновой лавки нас занесло в парикмахерскую. Остригли мы там косы и попросили сделать самую модную в то время прическу-»чарльстон». Ну и получили — чуть ли не под первый номер, на лбу завитушка какая-то в сторону. Вышли из парикмахерской, посмотрели друг на друга и заплакали. Чтобы не напугать домашних, пришлось в аптеке купить по метру марли да завязать свои легкодумные головушки. На оставшиеся деньги мы купили по два фунта керосину в каждый бидон и отправились домой. Приближаясь к дому, мы шли все тише и тише, наконец наши шаги на лестнице совсем замедлились. Однако вот и Томкина дверь. Я позвонила — и через ступеньки вверх! Вскоре на весь подъезд раздались вопли моей подруги… Долго я поднималась к себе в квартиру, долго стояла у двери, но, решив — будь что будет! — позвонила. Открыла Катя, жена брата. Увидела меня с забинтованной головой и запричитала: