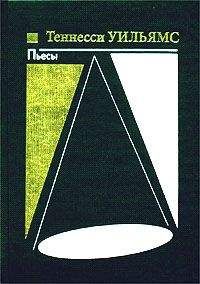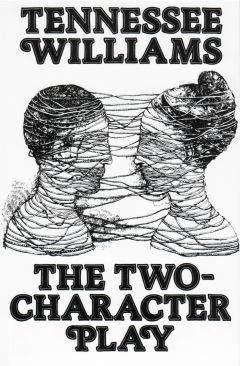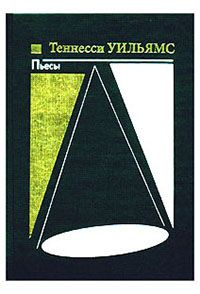Теннесси Уильямс - Мемуары
Вся эта книга написана в виде некоего потока «свободных ассоциаций», я научился ему в процессе нескольких периодов психоанализа. В ней совмещаются и записи о текущих событиях, как важных, так и заурядных, и воспоминания, большей частью — более важные. По крайней мере, для меня.
Я часто буду прерывать воспоминания о прошлом отчетом о том, что волнует меня в настоящем, потому что многое из того, что волновало меня в прошлом, продолжает занимать меня и сегодня.
Будет или не будет это приемлемо для вас, зависит, в том числе, и от вашей толерантности к стареющему мужчине, которого почти непрерывно болтает между воспоминаниями и его состоянием в настоящее время.
Эта «вещица», как я буду называть ее, нуждается в вашей интерпретации. Я должен просить вас вспомнить все, что вы знаете из истории того человека, который ее написал.
По ходу книги мне придется много говорить о любви, больше о плотской, но и о духовной тоже. Для человека, так часто бывавшего на краю пропасти, я прожил удивительно счастливую жизнь, в которой было много удовольствия — и чистого, и нечистого.
«Эта чувственная музыка…»
Я все еще слышу ее.
Есть ли в этой книге, при ее необычной структуре, что-нибудь «от профессионала»? Я всегда писал из гораздо более глубоких побуждений, чем просто по профессиональным обязанностям, и знаю, что это часто вредило моей карьере. Но чаще — шло ей на пользу. Карьера? Нехорошее слово. Следовало бы сказать… нет, не так претенциозно, скорее — «призвание». Правда, у меня не было другого выбора, кроме как стать писателем.
Так, что у нас на повестке дня? Или, цитируя Анну Маньяни, что сегодня в программе?
Успех в театре пришел ко мне довольно поздно, но, поздно или рано сваливается на тебя счастье, оно сваливается, и ты должен знать, что ты — везунчик. А все остальные вопросы «задавайте собаке».
Мемуары
1
Чтобы начать эту «вещицу» на общественно значимой ноте, позвольте мне рассказать, как прошлой осенью, перед самым листопадом, я проводил уик-энд в одной из последних больших усадеб в Англии, в имении, так близко расположенном к Стоунхенджу, что один из камней упал на территорию владелицы этого дома — еще до того, как это место стало доисторическим святилищем друидов — и потом, то ли из-за восстания рабов, то ли из-за крушения рабовладельческого строя, его не подняли, а позволили лежать там, где он упал, и этот кусочек информации очень слабо (и только косвенно) связан с нижеследующим материалом.
Пора было ложиться, и хозяйка поместья, бросив на меня взгляд, спросила, не хочу ли я отдохнуть с хорошей книгой, так как она знает, что засыпаю я плохо. «Ступайте в библиотеку, выберите себе что-нибудь», — посоветовала она мне, указав на громадное холодное помещение в левом крыле этого палладианского здания. Поскольку она сама уже поднималась по лестнице, мне оставалось только последовать за ней. Я вступил в библиотеку и обнаружил, что в ней почти ничего не было, кроме очень больших томов в кожаных переплетах — такою древнего возраста, что его можно было бы сравнивать уже с возрастом того камня, что не попал в Стоунхендж. Случайно я обнаружил еще и потайную дверь, от пола до потолка, довольно любительски замаскированную фальшивым книжным шкафом, и это было не единственным примером обмана, с которым я столкнулся. Там я нашел настоящую книгу, называвшуюся «Кто есть кто в мире», или что-то в этом роде. Естественно, я тут же достал ее и нашел содержание, чтобы увидеть, есть ли там упоминание обо мне. Я был удовлетворен, обнаружив, что там было довольно много информации о некоем несуществующем персонаже, носящем мое профессиональное имя: хватало всяких неточностей — вполне, впрочем, безвредных, но одна из этих неточностей произвела убийственный эффект на мой юмор.
В списке моих премий и наград было удивительное заявление, что в некоем году в начале сороковых я получил грант в тысячу долларов — то есть гигантский — от Национального института гуманитарных и точных наук. Именно этот год — а не жертвователь этого якобы имевшего место гранта >— отчетливо стоит в моей памяти, потому что это был год (за несколько лет до того, как моя жизнь коренным образом изменилась после успеха «Стеклянного зверинца»), когда я заложил буквально все, чем владел, включая старую взятую на прокат портативную пишущую машинку, и все остальное — и старое, и новое, и портативное, даже одежду, кроме старой фланелевой рубашки, бридж и пары ботинок — реликтов того времени, когда я брал уроки верховой езды, предпочитая их обычной военной подготовке в университете штата Миссури. Это был год, когда я вынужден был перебираться с квартиры на квартиру, потому что не мог за них платить даже минимальную плату, это был год, когда я вынужден был выскакивать на улицу, чтобы стрельнуть сигаретку — ту совершенно необходимую сигаретку, которую каждый живой курящий писатель должен выкурить, чтобы начать утром работать. И это был год, когда у меня не переводились зверушки, которых французы называют papillons d’amour[1], потому что я не мог позволить себе купить пузырек кьюпрекса, обычною в те годы инсектицида для срамных волос, и когда меня заставил густо покраснеть крик — прямо на людном перекрестке — крик, после которого я не мог больше жить во Французском квартале Нового Орлеана: «Гад, ты вчера заразил меня мондавошками!» — после чего я пошел упаковывать свои вещи, хотя это очень громко сказано, потому что никаких вещей у меня не было — и отправился автостопом во Флориду. Видок у меня при этом был такой, что завидев меня при свете дня, водители выжимали педаль акселератора до самого пола, так что передвигался я в основном по ночам. У меня есть дневники, которые могут подтвердить эти мои воспоминания о том годе, когда я якобы стал счастливым обладателем этого «состояния» от института, в ряды членов которого ныне пустили и меня.
В те далекие годы я, нищий юнец, помешанный на театре — не подозревавшем, впрочем, о моем существовании — близко познакомился со многими другими молодыми писателями и художниками, и все мы тогда не обращали внимания ни на какие предупреждения малым кораблям, смело ведя вперед свои суденышки, каждый сам себе и капитан, и команда. Мы шли вперед, каждый на своем кораблике, но не упускали друг друга из вида, а порой и вступали в связь — не подумайте ничего дурного, просто как суденышки, сгрудившиеся в одной защищенной от бурь бухте, и это давало нам чувство общности, не слишком сильно отличавшееся оттого, что испытывают друг к другу ребята, которых зовут «волосатиками», те, кого холод нашего общества согнал в то, что называют коммунами.