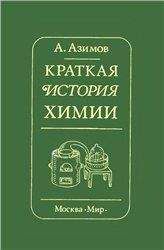Уве Тимм - На примере брата
Секунду-другую брат колеблется, уж больно неподвижно стоит человек, будто прирос, и даже когда он к нему приблизился и тот по идее уже шаги должен слышать, он все равно не оборачивается. Брат спрашивает, не знает ли он дорогу к казармам СС. Какое-то время, довольно долго, человек вообще не реагирует, потом медленно оборачивается и говорит:
— Вон. Луна смеется.
Тогда брат во второй раз спрашивает, как пройти к казармам, а человек в ответ велит ему следовать за ним, и сразу же направляется вперед, быстро, уверенно, размашистым шагом, идет куда-то сквозь ночь, не оборачиваясь и не помышляя о передышке. Брат понимает, что на освидетельствование он давно опоздал. Он спрашивает, как пройти к вокзалу, но человек, не отвечая, все шагает и шагает дальше, мимо темных крестьянских изб, мимо хлевов, откуда доносится сиплый рык тоскующей скотины. И только лед в дорожной колее под тяжелыми шагами похрустывает. Некоторое время спустя брат все же решается спросить, туда ли они идут. Человек останавливается, оборачивается к нему и говорит:
— Туда-туда. На луну идем, видишь, ей смешно, уж больно мертвяки закоченелые.
Ночью, уже дома, брат рассказывал, что в эту секунду ему сильно не по себе стало, а потом, на вокзале, он двух полицейских повстречал, те сумасшедшего разыскивали, сбежавшего из Альстердорфской больницы.
А потом?
На следующее утро он выехал пораньше, нашел и казармы, и призывную комиссию, прошел освидетельствование и был в тот же день зачислен: белокурый, рост 185, глаза голубые. Так он стал сапером танкового соединения дивизии СС «Мертвая голова». Восемнадцати лет от роду.
Среди дивизий СС эта считалась отборной, как и две других — «Рейх» и «Лейбштандарт Адольф Гитлер». Дивизию «Мертвая голова» сформировали в 1939 году из охранных частей концлагеря Дахау. В качестве особого отличия солдаты дивизии носили эмблему «мертвая голова» не только на головном уборе, но и в петлице.
Одна была у мальчика странность: время от времени, прямо в квартире, он исчезал. И не потому, что боялся наказания, он исчезал просто так, без видимой причины. Только что был тут — и нет его. И не найдешь, ищи не ищи. А потом столь же внезапно объявлялся. Мать спросит: где ты пропадал? Он не говорит.
Физически он был тогда довольно слабым мальчиком. Врач, доктор Мортхорст, установил малокровие и мерцательную аритмию. В то время брата никакими силами нельзя было выпихнуть на улицу — погулять, поиграть. Он не выходил из квартиры, даже в магазин, до которого только один марш по лестнице спуститься, даже в мастерскую, которую отец предпочитал называть «ателье». Он оставался в квартире, на вполне обозримом пространстве — четыре комнаты, кухня, туалет и кладовка. Мать, бывало, только выйдет из комнаты, через минуту вернется — а его нет. Она и кричать, и под стол заглядывать, и в шкаф. Нет как нет. Как в воздухе растворился. Это была его тайна. Единственная странность у мальчика.
Позже, много лет спустя, рассказывала мать, когда в квартире перекрашивали окна, под одним из них обнаружили деревянный цоколь, своеобразную фальшпанель под подоконником. Когда цоколь отодвинули, за ним кое-что нашлось: самодельные рогатки и пращи, карманный фонарик, а также книги и дешевые книжонки, все больше про диких зверей в дикой природе, — львы, тигры, антилопы. Названий других книг мать не запомнила. Вот там, внутри, он, видимо, и отсиживался. Сидел тихо, слушал шаги, голоса, матери, отца, а сам оставался незримым.
Когда мать этот тайник раскрыла, брат уже в армии был. И в тот единственный раз, когда он на побывку приезжал, забыла его об этом спросить.
По рассказам, он был очень бледным ребенком, прямо прозрачный весь. Вот ему и удавалось становиться невидимкой, исчез — и снова появился, сидит за столом, как ни в чем не бывало. На вопрос, где пропадал, отвечал только: под полом. То есть даже не совсем неправду. Конечно, совсем нормальным такое поведение не назовешь, но мать с расспросами не лезла, и не подглядывала за ним, и отцу ничего не рассказывала.
— Он был скорее боязливый мальчик, — говорила мать.
— Он не врал. Честный был. А главное, смелый, с малолетства, — это отец утверждал.
Храбрый мальчик. Так все потом о нем отзывались, в том числе даже и дальние родственники. Не слова, а скорее почти заклинание, и для него, наверно, тоже.
Первые записи в его дневнике сделаны в начале года, с 14 февраля, и заканчиваются 6 августа 1943 года, за полтора месяца до ранения, за два с половиной месяца до его смерти. Ни дня не пропущено. Потом, внезапно, записи обрываются. Почему? Что такое случилось 7 августа? После этого дня только одна запись, без даты, но о ней позже.
Февр. 14
С часу на час ждем приказа в бой. С 9.30 по тревоге полная боеготовность.
Февр. 15
Опасность миновала, ждем.
И так дальше, день за днем. То снова и снова ждем, то все по-старому, то построения без конца.
Февр. 25
Идем в атаку на высотку. Русские отступили. Ночью обстрел дороги.
Февр. 26
Боевое крещение. Атака русских силами целого батальона отбита. Всю ночь на позиции у своего пулемета без зимней экипировки.
Февр. 27
Прочесываем местность. Много трофеев! Потом снова вперед.
Февр. 28
Сутки отдыха, большая облава на вшей, и снова вперед на Онельду.
В этом месте я раньше всегда внутренне вздрагивал, опасаясь читать дальше. А вдруг под облавой на вшей подразумевается нечто совсем иное, отнюдь не дезинфекция обмундирования? С другой стороны, тогда вряд ли бы это называлось сутки отдыха? Однако откуда накануне много трофеев? Что за трофеи? Оружие? И как понять этот восклицательный знак, обычно в его записях почти не встречающийся?
Март 14
Воздушный налет. Иваны идут в атаку Мой тяжеленный трофейный ручной пулемет строчит как бешеный, еле держу, пара попаданий есть.
Март 15
Движемся на Харьков, гоним остатки русских.
Март 16
В Харькове.
Март 17
День прошел спокойно.
Март 18
Весь день под русской бомбежкой. В дом где мы расквартированы попадание бомбы трое ранен. Мой ручн. пулемет отказывает хватаю свой МГ-42[3] и луплю из него на в.40 беглым огнем.