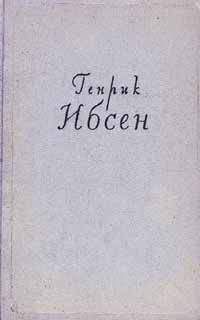Екатерина Олицкая - Мои воспоминания
От станции Полевая Курско-Харьковской железной дороги, где поезд останавливается на 2–3 минуты, вьется проселочная дорога по слегка холмистой равнине. Узенькие деревянные мосточки через речушку, носящую название Полная. По обеим сторонам необозримые заливные луга. Лесок на болоте. Овражек в бобовниках и поля, поля… Вытянется в одну улочку деревенька — штук 20–30 крытых соломой хатенок с торчащим на окраине журавлем колодца, с парой-другой пчелиных колодок на окаймляющих сельцо деревьях — и опять поля. Русская чересполосица бежит по обе стороны дороги. Чередуясь узкими лентами до самого горизонта, перемежались полосы ржи, гречихи, овса, проса… И опять деревенька. На 1-ой версте столб у дороги, серый, покосившийся от времени. К столбу прибита дощечка, такая же серая, и на ней при желании можно прочесть: «Сорочин Верх», «Любимово тож». Столб стоит на перекрестке. Дорога направо ведет к хутору — всего-то 12 дворов. Маленькие, кособокие, соломой крытые хатенки виднеются на склоне овражка, за выгоном. Дорога налево ведет в усадьбу помещика. Ворота в усадьбу всегда открыты настежь, одна створка соскочила с петель. От ворот, вокруг усадьбы не то вал обвалившийся, не то вал засыпавшийся, а вдоль него старые вековые деревья: тополя, березы, осины. Лихо въезжает таратайка в ворота, огибает хозяйственные постройки: конюшню, скотный двор, сараи и амбарушки низенькие, все соломой укрытые и, развернувшись у кружка из акаций и шиповника, останавливается перед господским домом, маленьким, низеньким, тоже под соломенной крышей. У крыльца высокий серебристый тополь, а за домом сад.
Почему моя мать, выйдя из таратайки, села на чемодан и заплакала, я никогда не могла понять. Но всегда именно так описывала она свой первый приезд в Сорочин. И, как это ни странно, мне было жаль не ее, а отца. Моя мать, так и не полюбила наш милый старый Сорочин с его покосившимся домом, с его запущенным садом, заросшим крапивой, чернобыльником и полынью. Своих рук, если не считать домашнего хозяйства, она почти и не приложила к нему. То ли после родового имения Марьевки он казался ей убогим, то ли сельское одиночество угнетало ее. Часто, помню, говорила мама о том, что если бы капитал, вложенный в нашу деревушку, был бы просто отдан под проценты в банк, доходы наши не уменьшились бы.
Не меркантильные соображения руководили моей матерью, много, очень много горьких разочарований пришлось пережить родителям в нашем Сорочине. Ведя хозяйство, отец не руководствовался вопросами выгоды и доходности. Он увлекался сельским хозяйством. Он старался по мере материальных возможностей вести его по последнему слову науки. Каждую свободную копейку он вкладывал в хозяйство. Возводились новые конюшни, скотные дворы, только дом наш отец не удосужился перестроить. Зато его племенные жеребцы, бык и свиньи удостаивались первых премий на выставках, а полевое хозяйство не имело себе равных в уезде.
Настойчиво, шаг за шагом сближался отец с крестьянами, читал с ними газеты, толковал о хозяйстве, о погоде, о видах на урожай и о политике. Крестьяне уважали и любили отца, но переступить бездну, разделяющую крестьянина и помещика, не могли ни они, ни он.
Помню, днями, а то и неделями, отец ходил угрюмый и подавленный. Крестьянский скот снова потравил его клеверище. Каждый раз он грозно уверял, что не спустит при повторении потравы, назначал штраф за потраву по рублю с головы, грозил подать в суд, но, так как у стоящего перед ним крестьянина никогда не было этого лишнего рубля, и он молча стоял перед отцом и мял в руках картуз, отец записывал его в какую-то книгу. Бедный папа! Мы часто смеялись над его грозным видом. Мы отлично знали, что он никогда не подаст в суд на крестьянина и никогда не взыщет записанных в книгу рублей,
Во имя папиного хозяйства вся наша семья во многом себе отказывала. Не было отказа в питании, стол у нас всегда был сытный и здоровый, не было отказа в воспитании и обучении детей, если не считать гувернанток немок и француженок, от которых маме пришлось отказаться, когда родился младший брат, а мне исполнилось 5 лет. Не было отказа в книгах и журналах. Живя круглый год в деревне, папа выписывал целый ряд газет и журналов, не говоря о сельскохозяйственной литературе. В доме у нас стояли шкафы, до отказа заставленные научными книгами, беллетристикой и журналами.
Отношение отца к крестьянам, его тяга к крестьянству накладывали на нашу жизнь особый отпечаток. У папы не было знакомства среди соседей-помещиков, он общался только с крестьянами. Своеобразные отношения были у нас дома и с прислугой. К нам, детям, ближе всего стояла, конечно, няня. Я хорошо помню лицо и фигурку нашей, согнутой годами, старушки-няни. Все в доме уважали и любили ее. Она нянчила старшую сестру, брата, вторую сестру и меня. Мама была очень привязана к ней. Одной из радостей нашего детства был большой окованный железом нянин сундук. Чего только не таил он в себе! Сама крышка его была предметом радостей и восторгов. Когда няня поднимала крышку своего сундука, мы облепляли его, как мухи. Вся крышка сундука была изнутри оклеена картинками. Тут были и куклы в нарядных платьях, и изображения разных зверей, и просто красивые конфетные бумажки. Почтительное и уважительное отношение было у нас к единственной няниной фотографии. Няня была снята на ней в кругу своей семьи. Уже не молодая, сидела она в своем вечном синем чепчике в центре большой семейной группы. Няню окружали 22 ее сына. Что понимала я, девочка? Но 22 сына внушали мне восторженное почтение к няне. Няня рассказывала нам чудесные сказки, но самой любимой, самой диковинной сказкой няни была сказка о ее жизни. Няня в юности была крепостной, и крепостной у очень злой барыни. Кочергой, в припадке злости, перебила барыня няне нос, он так и остался у няни кривой. Всегда, когда рассказ нянин доходил до того места, как барыня за какой-то тайком съеденный няней соленый огурец взялась за кочергу, я с ужасом вглядывалась в лицо няни, и казалась она мне сказочной героиней.
Когда няня умирала, мы уже жили в городе. По ее желанию проститься с нами, папа поехал за нами в город. Увы! Зимняя дорога была очень плоха и, приехав в деревню, мы не застали няню в живых.
Переезд в КурскВопрос о переезде в город встал, когда сестра и брат достигли школьного возраста. Мне тогда было около 5 лет. Я не помню сама. Но по рассказам знаю, что вопрос о воспитании детей решался в нашей семье трудно. Папа настаивал на том, чтобы детей воспитывать самим, дома — учить и приобщать к сельскому труду. «Пусть растут, как растут крестьянские дети, с той разницей, что мы сами сможем влиять на них и учить», — говорил папа. Мама решительно настаивала, чтобы детей отдать в гимназию, не предопределяя их судьбу. «Как будто такое решение не предопределяет», — возмущался отец. Но в этом вопросе мать не пошла на уступки, и переезд в город состоялся.