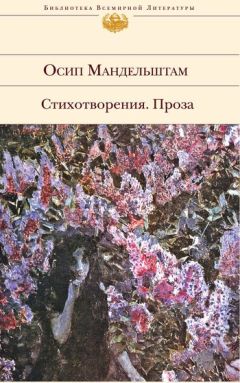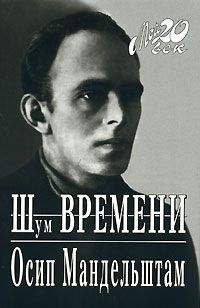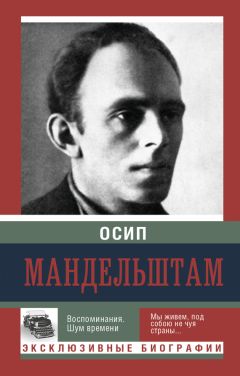Надежда Мандельштам - Мой муж – Осип Мандельштам
Что же касается до советов Эренбурга в девятнадцатом году, то я к ним, конечно, не прислушалась и весело его высмеивала, изображая в лицах, как он меня поучает. Боюсь, что, кроме братьев Маккавейских, моих чудачливых и добрых приятелей, все мои слушатели были на стороне Эренбурга. А насчет Мандельштама я уже догадывалась, что его легкомыслие не похоже на легковесность моих друзей. Он говорил иногда вещи, которых я ни от кого еще не слыхала. Лучше всего я запомнила его слова о смерти. Удивляясь самому себе, он сказал, что в смерти есть особое торжество, которое он испытал, когда умерла его мать. Многого из того, что он говорил о смерти, я, вероятно, тогда не поняла, но потом, когда я уже стала кое-что понимать, он больше об этом не заговаривал. У меня создалось впечатление, будто для него смерть не конец, а как бы оправдание жизни. Тогда убивали на каждом шагу, и я склонялась к мысли, что смерть просто нелепая случайность.
Еще Мандельштам пытался мне объяснить, что такое узнавание. Это интересовало его тогда больше всего. Он слышал, что узнавание психологически необъяснимо, но для него вопрос стоял шире. Он думал не только о процессе, то есть о том, как протекает узнавание того, что мы уже видели и знали, но о вспышке, которая сопровождает узнавание до сих пор скрытого от нас, еще неизвестного, но возникающего в единственно нужную минуту, как судьба. Так узнается слово, необходимое в стихах, как бы предназначенное для них, так входит в жизнь человек, которого раньше не видел, но словно предчувствовал, что с ним переплетется твоя судьба. Говорил он со мной очень осторожно – приоткрывал щелочку и тут же захлопывал, как будто оберегал от меня собственный мир, куда все же хотел, чтобы я заглянула. В этом было настоящее целомудрие, и я чувствовала его и в стихах, но люди вокруг нас о такой штуковине даже не подозревали. Целомудрие, душевное, физическое – любое, если б они с ним столкнулись, показалось бы им чем-то вроде вывиха или перелома кости. Только цинизмом среди них и не пахло. Во всяком случае, никто из тех, кто стал художником, циником не был, хотя и повторял любимое изречение Никулина: «Мы не Достоевские, нам лишь бы деньги…» Действовала своеобразная авангардистская, как я бы сказала по-современному, жеребятина. Карнавальный Киев девятнадцатого года любил марджановскую постановку, левизну во всем – в политике, в речах, в мысли и особенно в любви. Впрочем, это была не любовь и не мысль, а какие-то обрубки.
А я рассказала Мандельштаму, как мне случилось позировать мальчику-скульптору по фамилии Эпштейн. Он жил высоко на Лютеранской улице в барской квартире, покинутой хозяевами. В его комнате я впервые столкнулась с неприкрытой нищетой: неубранная койка с рваной тряпкой вместо простыни, а на столе – жестяная кружка для чаю. Не знаю, что сталось с этим Эпштейном, но бюст свой я потом увидела в киевском музее. Вряд ли он там уцелел: портрет еврейской девочки работы еврейского скульптора – слишком тяжелое испытание для интернационалистов Украины.
Однажды Эпштейн прервал работу и подозвал меня к окну. Мимо нас по пустырю солдаты вели спотыкающегося измученного человека с большой белой бородой. Эпштейн объяснил, что для этого человека, киевского, что ли, полицмейстера, придумали особую пытку – его ежедневно ведут на расстрел, приводят, не расстреливают и отводят обратно в тюрьму. С ним сводят счеты за то, что он был жесток в преследованиях революционеров. Это совсем не старый человек, а волосы у него поседели от пытки… Эпштейн, еврейский мальчик, которого этот полицмейстер, будь он у власти, не пустил бы учиться в Киев, не мог примириться с жестокостью мстителей (я не помню, при какой власти это происходило – при украинцах или при красных, – каждая старалась перещеголять другую). Настоящему художнику жестокость противопоказана. Я никогда не могла понять, как Маяковский, настоящий художник, мог говорить зверские вещи. Вероятно, он настраивал себя на такие слова, поверив, что это и есть современность и мужество. Слабый по природе, он тренировал свою хилую душу, чтобы не отстать от века, и за это поплатился. Я надеюсь, спросят не с него, а с искусителей. Мандельштам, тоже еврейский мальчик с глубоким отвращением к казням и пыткам, с ужасом говорил о гекатомбах трупов, которыми «они» ответили на убийство Урицкого. Все виды террора были неприемлемы для Мандельштама. Убийцу Урицкого, Каннегисера, Мандельштам встречал в «Бродячей собаке». Я спросила про него. Мандельштам ответил сдержанно и прибавил: «Кто поставил его судьей?» Мальчиком под влиянием Бориса Синани он верил, что «слава была в б. о.», и даже просился в террористы (для этого ездил в Райволу, как рассказано в «Шуме времени», но не был взят по малолетству). Потом отношение к террору начисто переменилось. Я запомнила разговор с Ивановым-Разумником в середине двадцатых годов. Он тоже жил в Детском Селе, и однажды мы к нему зашли. За несколько дней до нашей встречи в «Деловом клубе» в Ленинграде взорвалась бомба. Иванов-Разумник был по этому поводу в приподнятом настроении и очень удивился, что Мандельштам не разделяет его радости. Наконец он прямо спросил, чем объясняется такое равнодушие к столь важному событию: «Значит, вы против террора?» Мандельштам, разговаривая о мировоззренческих вещах, не имевших отношения к поэзии или философии, всегда как-то тускнел. Искренно удивленный, Иванов-Разумник осведомился, как Мандельштам расценивает подвиги террористов прошлого, казнь Александра Второго, например, и преисполнился чем-то очень похожим на презрение, узнав, что Мандельштам последовательно отрицает всякий террор, против кого бы он ни направлялся. Как это ни странно, но в те годы отрицание террора воспринималось как переход на позиции большевиков, поскольку они отказывались от террора как от метода революционной борьбы. Иванов-Разумник, вероятно, так и понял Мандельштама, хотя для полноты информации ему не мешало узнать, как тот относится к государственному террору, который мы успели узнать на опыте. А я во время этого разговора молчала и огорчалась: опять наткнулись на чужого, все почему-то чужие, и зачем Мандельштам не смягчает чуждость – что ему стоило уклониться от ответа или пробурчать что-нибудь неопределенное? – надо ли всюду и всегда подчеркивать свою чуждость вместо того, чтобы срезать острые углы… В молодости так хочется гармонии и розовых отношений с людьми. Непримиримость Мандельштама утомляла и тяготила мое незрелое сознание…
Мандельштам покупал и просматривал издания Центроархива, и среди них было много книг с делами террористов. О казненных говорить плохо он не стал бы, но его всегда удивляла скудость и ограниченность этих людей. (Мне хотелось бы, чтобы Кибальчич составлял исключение, но его дело, кажется, никогда не издавалось. Во всяком случае, мы его не видели.) Террор, как бы он ни проявлялся, был Мандельштаму ненавистен.