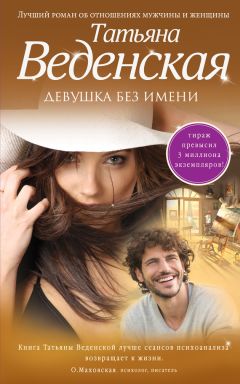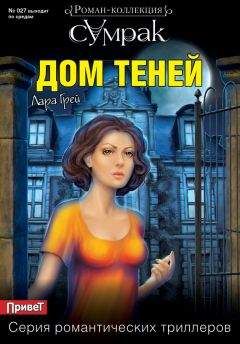Михаил Алексеев - Пути-дороги (Солдаты - 2)
Но вдруг шум этот, рожденный воображением молодого человека, сменился реальным, все нарастающим, величаво-спокойным и ровным гулом, катившимся откуда-то сверху. Штенберг вздрогнул, сбежал с крыльца и поднял голову. Невысоко над его усадьбой, в ясной синеве весеннего утра, степенно и деловито плыли два краснозвездных самолета. Щурясь от солнца, собирал вокруг хитро улыбающихся глаз пучки мелких морщинок, за ними следил конюх Ион. Дед зачем то стянул с головы форменную фуражку (участник кампании 1877 года, старик и сейчас не расставался с военным мундиром), и ветер шевелил на его голове реденькие пряди седых волос.
-- Ион! -- окликнул его лейтенант.-- Уведи коней в сарай. Гнедого заседлай для меня. Да побыстрее! Что уставился?..
Через пять минут Штенберг уже скакал в большое селение Гарманешти, что было в одном километре от eго усадьбы. Село встретило молодого боярина странным оживлением. Первым, кого увидел лейтенант, был лавочник. Пухлое, лоснящееся лицо торговца выражало крайнюю растерянность.
-- Что с вами? -- спросил его Штенберг, придерживая коня.
-- Как что? Разве господин лейтенант не знает... -- Лавочник вдруг оборвал себя и лишь неопределенно махнул рукой.
-- Что ж вы делаете? Зачем заколачиваете окна магазина? Разве вы не собираетесь больше торговать?
-- Торговать мне нечем. Все -- там, -- и он эффектным жестом указал на землю.
-- Закопал?
-- А что я должен делать? Оставлять русским?..
-- Русских сюда не пустят.
-- Кто же это их не пустит?
-- Армия, разумеется.
-- Дай бог,-- пробормотал лавочник и снова взялся за топор, которым до этого подгонял доски на окнах.
Лейтенант поморщился и пришпорил коня. У деревянного моста, под которым бушевал весенний поток, Штенберг снова задержался: на этот раз его остановил сельский священник. Поверх рясы у него была надета епитрахиль цвета хаки. Альберт сразу понял, что случилось.
-- И вас, святой отец, мобилизовали?
-- Мобилизовали, сын мой. Полковым священником в вашем корпусе буду. Боже, боже! Спаси и помилуй! -- Поп воздел короткие руки к небу. -- Всех на оборону, к дотам! -- Он снова повернулся к лейтенанту.-- Слышите? Всех!
Штенберг прислушался. Из-за поворота улицы к мосту приближалась группа сельских парней под командой фельдфебеля. Один из мобилизованных, пьяно раскачиваясь, пел надрывным голосом:
Господи, даже горы мрачнеют
В час, когда рекрутам головы бреют...
Под заунывный плач скрипки и рожка остальные подхватывали:
Звон колокольный нас гонит из хаты.
Служба солдатская, как тяжела ты!
-- Замолчать! -- рявкнул, должно быть уже не в первый раз, фельдфебель. Но его никто не слушал, словно фельдфебеля не было вовсе.
За колонной новобранцев темной массой катилась толпа женщин и стариков. Одна молодая румынка страшно, с волчьим подвывом, плакала. А над колонной плыла и плыла, бередя сердца людей, солдатская песня:
Мама, ты встань, помолись у порога,
Может быть, станет полегче дорога.
Встань, помолись на икону, -- быть может,
Бог от окопов спастись нам поможет.
Священник, пропустив мимо себя новобранцев и толпу крестьян, вдруг вознегодовал:
-- Бога вспомнили! А когда я с божьим благословением к ним подходил, чуть было не побили. Спасибо жандарму -- выручил, а то влетело бы... В штурмовой батальон* всех. Там они по-другому запоют.
* Вроде штрафного батальона.
-- Неужели им не дорого наше бедное отечество! -- воскликнул Штенберг, и черные усики под его коротким носом шевельнулись.
-- Не дорого, господин лейтенант, не дорого, -- охотно подтвердил священник, перебирая дряблыми пальцами епитрахиль. -- Троих пришлось оставить. Подозреваю: махорочного настою напились...
-- Дивизионного прокурора сюда позовем. Он разберется.
Сказав это, Штенберг хотел ехать дальше. Но навстречу ему уже бежали хромой и черный, как грач, Патрану и пожилой жандарм.
-- Что случилось, господа? -- спросил Альберт.
-- Беда, боярин! -- Патрану оглянулся на жандарма, как бы призывая его в свидетели. -- Мужики там... на площади... отказываются идти рыть окопы...
Лейтенант чуть побледнел, но промолчал. Не взглянув больше на сконфуженных его молчанием Патрану и жандарма, ои помчался в центр села, где действительно собралось до сотни крестьян, о чем-то громко споривших. Над толпой маячили остроконечные верхушки бараньих шапок. С приближением Штенберга верхушки эти зашевелились. Оказавшись среди толпы, боярин крикнул:
-- В чем дело, э-э... господа? Отчего вы не на обороне?
Крестьяне угрюмо отмалчивались. К толпе подбежали запыхавшиеся и злые Патрану и жандарм, отставшие от Штенберга. Остроконечные верхушки шапок начали расплываться в разные стороны.
-- Вы что же, не желаете защищать свое отечество?
Офицер обвел толпу недоумевающим взглядом.
-- Что же вы молчите? Вот ты, Бокулей, почему ты не хочешь идти на оборонительную полосу?
Худой желтолицый крестьянин зачем-то снял шапку, обтер ею свою курчавую голову и только потом уже ответил:
-- Я отдал двух сыновей. С меня хватит.
-- Но ты не забывай, что один из твоих сыновей дезертировал. Не служит ли он русским? -- Штенбергу хотелось сказать что-то более острое и обидное этому мужичонке, но он не мог. Все та же непонятная ему самому нерешительность, которую он испытал утром в разговоре со старым конюхом Ионом и управляющим, сдерживала его и сейчас. -- Ты смотри у меня, Бокулей! -- пригрозил он на всякий случай крестьянину.
Тот ответил тихо, но твердо:
-- Я не знаю, где мои сыновья. Их взяли в армию.
-- Зато мы знаем! -- Штенберг соскочил с коня, сунул за ремень черенок плетки и вдруг заговорил дружелюбно: -- Отечество в опасности, господа! Мы ведь с вами односельчане, и нам легко понять друг друга. Королева Елена и командование румынской армии поручили мне сказать вам, что вы должны создавать добровольческие отряды по борьбе с русскими парашютистами. Готовьтесь! Вам уже зачитывали обращение маршала Антонеску и Мамы Елены. Русские идут сюда, чтобы взять у вас ваши земли, ваших жен и дочерей.-Лейтенант почувствовал, что голос его начинает дрожать, и поскорее закончил: -- За спасение вашей земли, наших очагов, господа!..
Толпа, до этого упорно молчавшая, вдруг загудела. Почувствовав, что крестьяне, по крайней мере большая их часть, поверили его словам, боярин прокричал еще громче:
-- Русские не пройдут по нашей земле!
Штенберг ожидал, что эти слова вызовут волну патриотических возгласов, но крестьяне молча начали расходиться по домам. Площадь быстро опустела. Гарманешти погрузилось в тяжкую и долгую тишину. Только слышно было, как по-весеннему бодро ревел, клокотал под опорами моста водяной поток.