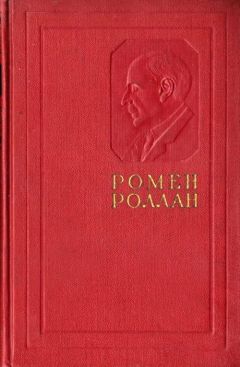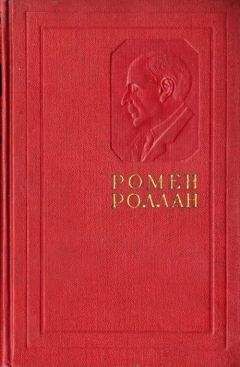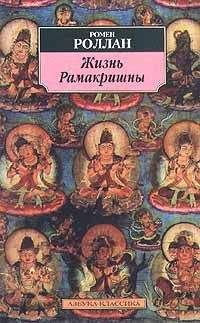Ромен Роллан - Жизнь Толстого
Примечательная родословная – и с материнской и с отцовской стороны! Как Толстые, так и Волконские – очень древнего и очень знатного рода; и те и другие гордятся своим происхождением от Рюрика и насчитывают среди своих предков и сподвижников Петра Великого, и полководцев Семилетней войны, и героев сражений с Наполеоном, и декабристов, сосланных в Сибирь. Богатые семейные предания послужили Толстому для создания наиболее характерных образов «Войны и мира»: прообраз старого князя Болконского – его дед с материнской стороны, обломок екатерининской аристократии, вольтерьянствующей и деспотической одновременно; князь Николай Георгиевич Волконский, двоюродный брат его матери, был ранен под Аустерлицем и подобран с поля сражения в присутствии Наполеона, так же как и князь Андрей; у своего отца Толстой заимствовал некоторые черты для образа Николая Ростова;[3] мать Толстого – княжна Марья, кроткая дурнушка с лучистыми глазами, – ее добротой овеяны страницы «Войны и мира».
Толстой не знал своих родителей. Чудесные главы «Детства и отрочества» содержат в себе, как известно, мало подлинных событий его детства. Мать умерла, когда ему не было еще и двух лет. Значит, не может он помнить милое лицо, которое видится маленькому Николеньке Иртеньеву за дымкой слез, – лицо с лучезарной улыбкой, распространявшей вокруг себя радость…
«Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе».[4] Но она несомненно передала ему свою редкостную искренность, равнодушие к людским пересудам и чудеснейший дар (чему сохранились свидетельства) придумывать и рассказывать сказки.
Об отце у него могло остаться больше воспоминаний. Это был человек с грустными глазами, но любезный и насмешливый; жил он в своем поместье и вел независимую, чуждую честолюбивых притязаний жизнь. Толстому было девять лет, когда он потерял отца. Эта смерть «как будто в первый раз» открыла ему «горькую истину и наполнила его душу отчаянием».[5] Первая встреча ребенка с ужасным призраком, с которым ему предстояло сражаться часть своей жизни и который впоследствии он преображает и прославляет… След этого первого соприкосновения со смертью запечатлен в незабываемых строках последних глав «Детства», где воспоминания о смерти отца претворены в описание смерти и похорон матери.
Осталось пять сирот в старом яснополянском доме, где 28 августа 1828 года родился Лев Николаевич Толстой и откуда он ушел навсегда только через восемьдесят два года, накануне своей кончины. Самая младшая из детей, Мария, впоследствии стала монахиней (это к ней направился Толстой перед смертью, покинув дом и близких).
Кроме нее, было четыре сына: Сергей – эгоист и чаровник, «чистосердечный до такой степени, какую мне не приходилось наблюдать ни у кого другого»; Дмитрий, страстный до одержимости, впоследствии, будучи студентом, впавший в крайнюю религиозность, – не заботясь о мнении света, он постился, отыскивал бедных и покровительствовал им, давал приют увечным, – потом внезапно с тем же пылом предавшийся разгулу, после чего, снедаемый угрызениями совести, выкупил и взял к себе девицу, которую встретил в публичном доме; умер он от чахотки двадцати девяти лет;[6] Николай, старший, самый любимый из братьев, утонченно насмешливый и в то же время застенчивый, унаследовал от матери ее воображение и дар рассказчика;[7] впоследствии он служил офицером на Кавказе, где пристрастился к вину; он тоже был преисполнен христианского смирения, жил необычайно скромно и делил с бедными все, чем располагал. Тургенев говорил о нем: «Он на практике применял то смирение, которое его брат Лев обосновывал теоретически».
С сиротами остались две женщины высокой души. О первой из них – тетушке Татьяне[8] – Толстой говорит: «У нее было две добродетели» – «умиротворенность и любовь к ближним». Вся ее жизнь исполнена любовью, непрестанным самопожертвованием. «…Она научила меня духовному наслаждению любви».
Другая тетушка, Александра, постоянно всем услужала, но не принимала услуги других и старалась обходиться без посторонней помощи; больше всего она любила читать жития святых и беседовать со странниками – богомольцами и юродивыми. Многие из этих юродивых жили в доме. Одна из них, старица-богомолка, распевавшая псалмы, даже была крестной матерью сестры Толстого. В доме жил юродивый Гриша, который непрерывно плакал и молился…
«О великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость бога; твоя любовь так велика, что слова сами собой лились из уст твоих – ты их не поверял рассудком… И какую высокую хвалу ты принес его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю!..»[9]
Нельзя не отметить ту роль, которую играли все эти смиренные души при формировании детского сознания Толстого. Не они ли проглядывают в некоторых поступках и чертах Толстого последних лет жизни? Их молитвы и всепрощающая любовь заронили в душу ребенка семена веры, плоды которой он пожинал старцем.
Кроме юродивого Гриши, Толстой в повести «Детство» не упоминает никого из этих смиренных людей, влиявших на формирование его души. Но зато во всей книге чувствуется эта душа ребенка: «… мое чистое детское любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в людях… лучшие их свойства и то, что все люди эти казались мне исключительно хорошими…» Чувствуется эта всепоглощающая нежность! Когда он счастлив, он думает как раз о том единственном человеке, который, по его мнению, несчастлив, он плачет и жаждет выразить ему свои чувства. Он целует старую лошадь и просит у нее прощения за то, что причинил ей страдания. Он счастлив, когда любит, даже не будучи любим. Уже тогда обнаруживаются задатки будущего гения: избыток воображения повергает его в слезы, и он плачет над историями, им самим придуманными; мозг постоянно работает, пытаясь отгадать мысли окружающих; в нем преждевременно развивается склонность наблюдать и запоминать.[10] Даже предаваясь скорби по умершему отцу, он внимательно изучает лица окружающих и взвешивает искренность испытываемого ими горя. В пять лет он, по его словам, почувствовал впервые, «что жизнь не игрушка, но трудное дело».
К счастью, он забывал об этом. В то время он наслаждался народными сказками, русскими былинами, этими мифическими, легендарными сказаниями, библейскими притчами – в особенности величественной историей Иосифа, которую и в старости он отмечал как образец высокого искусства, – сказками из «Тысячи и одной ночи», которые каждый вечер в комнате бабушки рассказывал слепой сказитель, сидя на подоконнике.