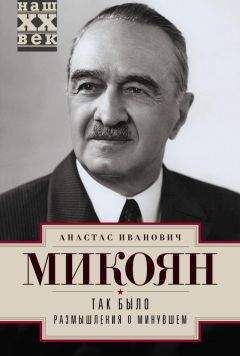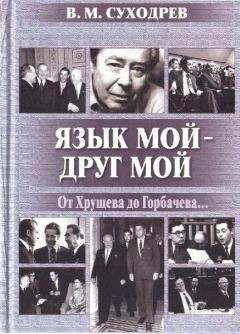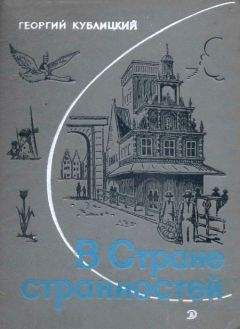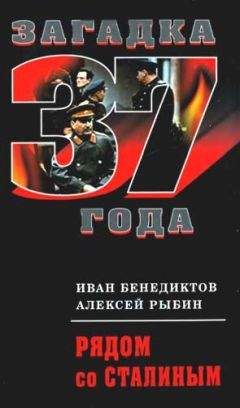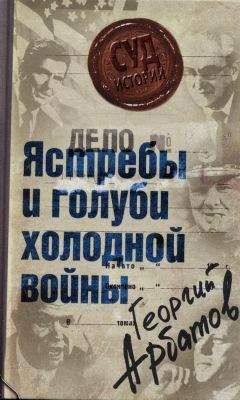Георгий Мирский - Жизнь в трех эпохах
Песни тридцатых годов
Много славных девчат в коллективе, но ведь влюбишься только в одну. Можно быть комсомольцем ретивым и весною вздыхать на луну». Это куплет одной из популярных песен той эпохи. Ключевые слова здесь — «в коллективе». Этот знаменитый термин «коллектив» определял суть нашей жизни. Мы жили в коллективистском, а точнее говоря — в псевдоколлективистском обществе. С самого начала жизни нас приучали к тому, что главное, единственно ценное — это не отдельный человек, а народ. «Единица — что? Единица — малость», как писал Маяковский. «Человек — винтик», «Незаменимых у нас нет» — считалось у нас. До чего же похожи все тоталитарные системы! Один из лозунгов гитлеровской Германии гласил: «Ты ничто, твой народ — все!» Правда, у нас термин «народ» подразумевал не все население, а прежде всего рабочих и крестьян, они считались хозяевами страны, остальные — осколки, остатки эксплуататорских классов, хотя часть из них могла «перековаться», и таким образом возникла «трудовая интеллигенция», которой было милостиво предоставлено право быть частью народа — не классом, но хотя бы «прослойкой». А эксплуататоры — их не было вообще, ведь это были уничтоженные революцией капиталисты и помещики.
Мы их должны были заочно ненавидеть, этих врагов трудовою народа. То, что помещики и капиталисты (а заодно, конечно, и попы) были ликвидированы, было доказательством уничтожения всех видов гнета и эксплуатации; если бы кто-то сказал, что само государство может быть эксплуататором, на него посмотрели бы в лучшем случае как на идиота. Но такая мысль даже никому не могла придти в голову. Невежество наше было безгранично. Если бы меня в десятилетнем возрасте, например, спросили: «Как живут люди в капиталистических странах?» — я бы ответил: «Ужасно. Угнетенные, задавленные, половина из них безработные, голодают, ночуют под мостами». Мы искренне верили, что наш строй — самый лучший и справедливый, ведь у нас нет господ и слуг, правит сам народ, мы — хозяева страны!
Иногда говорят, что сталинский режим держался только на страхе. Это неверно. Он держался на трех китах: энтузиазм, страх и общественная пассивность. «Простые люди», трудовой народ, как и везде, вообще был внутренне далек от идеологии и политики, думал о своих тяжелых жизненных проблемах и принимал существующую систему как данность. Он безропотно ходил на митинга и демонстрации, выкрикивая что нужно. Над содержанием лозунгов люди не задумывались. Рассказывают такой анекдот (а возможно, и быль): во время демонстрации в провинциальном городе местный начальник спьяну или по ошибке кричал с трибуны среди прочих лозунгов: «Смерть врагам капитала! Ура!» — и площадь дружно откликалась: «Ура!» Все эти лозунги в одно ухо входили и в другое выходили.
Официально считалось, что мы, советские люди, — это авангард человечества, его лучшая, передовая, наиболее сознательная часть; за нами рано или поздно пойдет весь род людской. Мы были пионерами в первоначальном смысле слова, первопроходцами, открывшими единственно верный путь для всего человечества. Вера в мировую революцию среди молодежи была абсолютной, в одной из песен были такие слова: «Сгустились на Западе гнета потемки, рабочих сковали кольцом, но будет и там броненосец «Потемкин», да только с счастливым концом». Эта мировая революция мыслилась как прежде всего вооруженная экспансия с нашей стороны, и мы пели; «По всем океанам и странам развеем мы красное знамя труда!», «Наш лозунг — всемирный Советский Союз!», «Пролетарии всех стран соединяйтесь! Наша сила, наша воля, наша власть! В бой последний, коммунары, собирайтесь! Кто не с нами — тот наш враг, тот должен пасть!», «Мы летим стрелой и над всей землей скоро взовьется наш красный стяг!».
Энтузиазм и страх присутствовали, в разной пропорции, среди большей части населения. Жутким страхом были охвачены, начиная с середины 30-х годов, не только люди, входившие в политическую элиту, но и вообще городские образованные слои, все следившие за политикой и читавшие газеты. «Простые люди» были меньше подвержены страху, но все равно все всегда помнили о существовании «гепеу» (ГПУ, Государственное политическое управление, позже переименованное в НКВД, Народный комиссариат внутренних дел, а затем в КГБ). Все знали, что язык надо держать за зубами. Мы, мальчишки, страха не испытывали, но тоже знали, что есть вещи, о которых лучше не говорить. Недаром родители вообще не говорили при детях о политике, опасаясь, что ребенок сболтнет что-нибудь в школе — и все, жди ночью гостей…
Доля энтузиазма в менталитете людей уменьшалась с возрастом, у старшего поколения она опускалась до нуля (кроме, конечно, «старых большевиков», идеалистов, но их число неуклонно снижалось как в силу естественной убыли, так и в результате репрессий). Среднее поколение, реальные «строители социализма» 20-х — 30-х годов, равно как и молодое подрастающее поколение (я говорю сейчас о городском, в первую очередь московском, населении) в той или иной степени были затронуты мощной волной энтузиазма. Среди моих сверстников-школь-ников подлинного энтузиазма, пожалуй, не было, нас мало интересовали политические и идеологические вопросы, мы практически никогда на эти темы и не разговаривали, хотя, разумеется, были всегда готовы без запинки отбарабанить все нужные слова, вбитые в нас пропагандой. Исключением была тема фашизма.
Слово «фашизм» олицетворяло все злое и враждебное. В ребячьих дворовых играх «фашист» означал то же самое, что «белый», «белогвардеец», даже хуже: белых давно победили, а фашисты были рядом. Именно этим объясняется огромный и неподдельный интерес к гражданской войне в Испании, искренняя тревога за судьбу испанской республики. Недавно я прочел в своем старом дневнике: «Каталония захвачена фашистами. Республика задыхается в кольце блокады, обескровленная, голодная». Это было написано не для статьи или выступления, — это искренне писал для себя двенадцатилетний мальчик…
Все были уверены, что война с гитлеровской Германией неминуема. Также никто не сомневался, что придется воевать и с «японскими самураями». Фашисты и самураи — вот два образа врага того времени. Подготовкой к войне, доходившей до уровня военного психоза, было охвачено все общество. Многие из числа образованной городской молодежи верили, что война станет началом мировой революции. Мне приходилось встречать юношей всего несколькими годами старше себя, которые с энтузиазмом готовились воевать за дело Ленина — Сталина против фашизма и тем самым против мирового капитала вообще, во имя торжества мировой революции. Эти ребята, наиболее известным среди которых стал поэт Павел Коган, действительно дождались войны и почти все погибли в первых же сражениях. Уже спустя много лет я узнал, что из каждой сотни юношей 1920 года рождения, попавших на фронт, уцелело лишь трое.