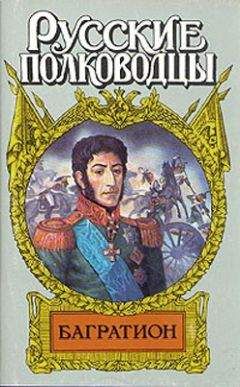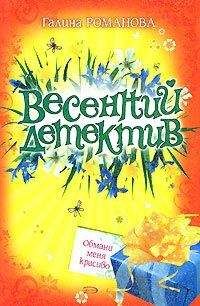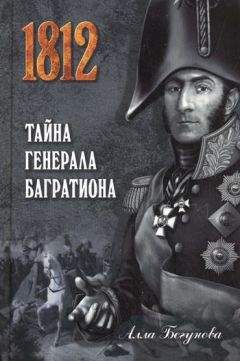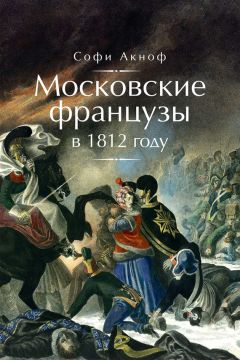Валентина Талызина - Мои пригорки, ручейки. Воспоминания актрисы
Своего деда по отцу я не помню, а мама его – моя бабушка Таня была из ссыльных поляков. Я её не видела, потому что она рано умерла. Она родилась в Семипалатинске. Её звали пани Галицкая. Она была чистая полька. Бабушкин отец был участником восстания Костюшко. После того как восстание было подавлено, поляков выслали в Казахстан и Западную Сибирь. Дети пани Галицкой – мой отец и его сестра – остались сиротами.
Мама обладала удивительной проницательностью: увидит человека и сразу скажет, что он из себя представляет
Мама вышла замуж за папу в Борисовском зерносовхозе. Говорили, что этот совхоз с хибарами барачного типа в тридцатые годы строили американцы, чтобы организовать образцовое хозяйство, которое будет давать рекордное количество пшеницы.
Мама работала в столовой, папа её увидел и влюбился с первого взгляда. Папа был очень красивый мужик – высокий голубоглазый шатен. Бабник, любимец женщин, с невероятной мужской харизмой. Папа имел удивительный подход к женщинам. Он располагал к себе какой-то трогательной наивностью. Может быть, это шло из его сиротского детства, не знаю, но в женщинах он, наверное, будил ещё и материнские чувства.
Папа был старше мамы на десять лет. Когда они встретились, он уже имел семью: жену Улю и дочку. Но папе его семейное положение никогда не мешало. Он был законченный, неисправимый ловелас.
У мамы с папой родился мальчик Лёня, и в три месяца он умер. Я всегда знала, что у меня мог быть старший брат.
Мама почему-то называла моего отца «дурнородый Талызин», хотя все папины женщины, а у него только официальных жён было не меньше трёх, звали его Серёжей. Наверное, он им так представлялся. Возможно, это имя казалось отцу красивым и уж, конечно, не таким замысловатым, как Илларион!
Когда папа учился в Промышленной академии в Москве, он оставался верен себе: закрутил роман с преподавательницей, но всё-таки в Барановичи, куда его направили после выпуска, вызвал законную супругу – мою маму Подозреваю, что преподавательница отказалась уезжать из Москвы.
И мы с мамой отправились к отцу через полстраны из Омска в Западную Белоруссию. Тогда это называлось «присоединённые земли».
Мы поселились у поляков. Местные ненавидели коммунистическую власть, но свои чувства, естественно, не демонстрировали. Ненависть к Советам приходилось запрятывать как можно глубже, в самые потаённые уголки. Там она тихо тлела, редко прорываясь наружу.
В Барановичах папа работал начальником ОРСа, а мама заведовала кассой. Я знаю, что, когда подошли немцы и нам пришлось эвакуироваться, моя честная мама, настоящая комсомолка, ключ от кассы забрала с собой, а деньги не тронула. Тогда никто не мог подумать, что война растянется на целых четыре года. Мама наверняка верила, что немцев отобьют и она вернётся на своё рабочее место. Ей казалось, что всё это ненадолго…
Домики в Барановичах были устроены по типу западных, к каждому прилегал участок. Мы приехали ранней весной и остановились у поляков. Когда родители уходили на работу, я оставалась одна. Наверное, хозяева дома за мной немного присматривали. Однажды я отправилась на разведку. Пошла по нашему участку, заглянула на соседний. Навстречу вышла женщина. Спросила: «Кто ты, откуда?» – «Вот я с того участка». – «Ну, девочка, тогда заходи к нам». Я зашла. «Как тебя зовут? Как твоя фамилия? А, так вы недавно приехали? А что ты умеешь делать?»
Я устроила этим людям целый концерт: пела и танцевала. Они меня угощали чем-то вкусным, я там распушила хвост от похвал. И ещё что-то рассказывала о себе, о жизни в Сибири. Они мной восхищались, говорили: «Какая хорошая девочка». Потом меня проводили на наш участок.
Отец уже пришёл домой. И мама тоже вернулась с работы. Я, видимо, долго гастролировала. И отец сказал: «Ты ходишь по чужим дворам, к евреям». Поставил меня в угол. Я стояла в углу очень долго. И когда отец выходил из комнаты, я говорила: «Мама, прости меня, я больше не буду!» – «Но тебя же папа поставил в угол!» А почему-то у него я не хотела просить прощения. Упрямо стояла в этом углу, уже надо было спать ложиться, а я всё стояла, показывая характер, и не просила у отца прощения. А к тем людям, моим первым зрителям, я больше не ходила.
В Барановичах папа, естественно, опять влюбился. Его избранницей стала полька Зося, жена белого польского офицера, смазливая, молодая, на пятнадцать лет моложе отца. Думаю, что дело всё-таки было не в возрасте. Скорей всего, виновата папина влюбчивость, а может быть, его польские корни сыграли какую-то роль, но новому чувству он не смог противостоять.
Мама каким-то образом узнала про очередное увлечение своего благоверного. Наверное, ей кто-то рассказал, мир не без добрых людей, а может быть, отец сам признался, но сцена, которая случилась на моих глазах, врезалась в память на всю жизнь, хотя я была совсем маленькой четырехлётней девочкой: отец стоит на коленях, хватаясь за мамины ноги, и громко умоляет: «Ну, сделай так, чтобы я не пошёл к ней!» Но мама, гордая сибирячка, удерживать мужа не стала, отпустила на все четыре стороны. И как ни трудно ей пришлось впоследствии одной, она, по-моему, ни разу не пожалела о том, что не боролась за мужа и дала ему вольную…
Великая Отечественная война началась, когда мне было шесть лет. Войну мы ощутили буквально на второй день. Слишком близко она подошла. Нам надо было срочно эвакуироваться, потому что семью коммуниста немцы не пощадили бы. Я помню, как поляки сидели приклеенными к радиорепродуктору и слушали речь Гитлера. Может быть, они понимали немецкий язык, а может – нет.
Мой отец ушёл к своей польке день или два назад, а возможно, даже в этот день, и мы с мамой остались одни. Железнодорожный узел был уже разбомблен, и мама бегала и искала машину или какую-нибудь подводу, чтобы эвакуироваться. Тогда, в моём детском возрасте, я, конечно, не понимала, что это было безумно трудно. И она ничего не нашла.
Мама вернулась ни с чем, а я сидела и слушала речь Гитлера из репродуктора вместе с поляками. Мама пришла и сказала: «Всё, я не нашла ничего». Она была смертельно усталая, в каком-то отчаянии. «Я остаюсь, – повторила мама, обращаясь к полякам. Что вам будет, то пусть и мне будет». И тогда поляки ответили: «Пани, мы вам должны сказать, что вам и нам будет разное. Немедленно уезжайте, бегите, ищите подводу, любой транспорт и скорее уезжайте отсюда, потому что вас ждёт другая участь».
Если бы они нас не предупредили, мы бы, наверное, остались в Барановичах и нашли бы там свою смерть. Потом мы узнали, что на следующий день там расстреляли всех жён и детей комиссаров на главной площади города. Мы чудом спаслись, нас с мамой успели эвакуировать в Сибирь к её сестре.