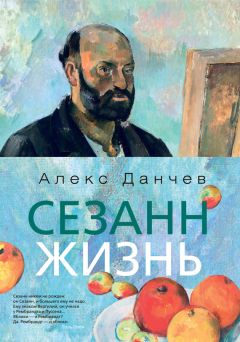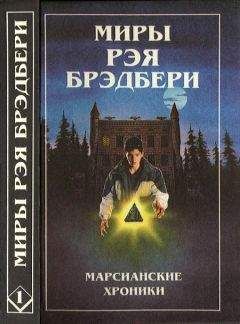Сезанн. Жизнь - Данчев Алекс
У Бернхейма Журден подлетел к восхитительному полотну Сезанна – «красному», понятное дело, – портрету мадам Сезанн… затем переключился на пейзаж. Он ринулся к нему как угорелый, но оказалось, что это не полотно, а настоящий пейзаж. Франц Журден нырнул в него с разбегу и исчез за горизонтом – Земля-то ведь круглая. Молодой сотрудник галереи, весьма охочий до шуток, воскликнул: «Теперь он не появится, пока не обернется вокруг земного шара!»
К счастью, этого не произошло. Собравшиеся увидели, как Франц Журден возник на поверхности, весь красный и отдувающийся. На фоне пейзажа он сначала выглядел совсем крошечным, но по мере приближения становился все больше и больше.
Он подошел, чуть сконфуженный, отер пот со лба и пробормотал: «Ну и дьявол этот Сезанн! Ну и дьявол!»
Затем, остановившись перед двумя картинами – натюрмортом с яблоками и портретом старика, – заявил: «Господа, пусть кто-нибудь посмеет сказать, что это не восхитительно».
«Я скажу, месье, – ответил Руо. – Эта не рука, а культя». И Франц Журден был вынужден прикусить язык, ибо в его доспехах обнаружилась пробоина. Живопись для него сводилась как раз к этому вопросу: выглядит рука культей или нет? Что ни говори, как ни крути, а от культи никуда не денешься. Но если человек целых двадцать лет прожил, крича о своем восхищении Сезанном, может ли он признать, что не знает, почему он им восхищается? {4}
Аполлинер кольнул в больное место. Поклонники творчества Сезанна всегда были неумеренны в своих восторгах и всегда терялись при необходимости их обосновать. Художник и теоретик живописи Морис Дени высказался об этом феномене в очень важной статье о Сезанне, опубликованной перед самым открытием ретроспективы и оказавшей решительное влияние на общественное мнение. «Я ни разу не слышал, чтобы хоть один поклонник Сезанна четко и ясно изложил причины своего восхищения, – начал он, – и это происходит даже с художниками, которые на себе прочувствовали обаяние его творчества. Только и слышишь: „качество“, „вкус“, „значительность“, „оригинальность“, „классицизм“, „красота“, „стиль“… Вот о Делакруа или Моне, к примеру, можно высказать обоснованное, четко сформулированное, вразумительное мнение. Но до чего же трудно ухватить главное в Сезанне!» {5} Словно в доказательство этой точки зрения, Роджер Фрай (который перевел статью Дени и в начале 1910 года опубликовал ее в журнале «Берлингтон мэгэзин») двадцать лет спустя завершил свое собственное, первое в истории искусства исследование о Сезанне смиренным вздохом: «И напоследок: мы совершенно не в состоянии объяснить, почему самый незначительный образчик его творчества воспринимается как откровение величайшей важности и что именно наделяет его такой мощной убедительностью» {6}.
Но вернемся к нашим баранам, как сказал бы Сезанн. Франц Журден продолжает осмотр.
Среди дюжины «сезаннов» в галерее Бернхейма имелась ваза с фруктами – вся перекрученная, перекошенная и кривобокая. У месье Франца Журдена возникли кое-какие претензии. Обычно вазы выглядят лучше – стоят прямее. Месье Бернхейм взял на себя труд защитить бедную вазу, для чего призвал на помощь всю любезность, присущую завсегдатаю блестящих аристократичных салонов Империи:
«Сезанн, вероятно, стоял слева от вазы с фруктами. Он смотрел на нее под углом. Сдвиньтесь немного к левому краю полотна, месье Франц Журден… Вот так… Теперь закройте один глаз. Ну разве все не встает на свои места? Как видите, у Сезанна никакой ошибки нет».
На обратном пути в Гран-Пале месье Франц Журден пребывал в глубоком раздумье: наморщенный лоб свидетельствовал о серьезной озабоченности. Наконец, перебрав в уме те баталии, которые ему пришлось выдержать, он произнес – так искренне, что члены жюри чуть не прослезились: «Все эти „сезанны“ у Бернхейма крайне опасны! – И, еще немного подумав, добавил: – Остановлюсь-ка я лучше на Вюйаре» {7}.
Как бы то ни было, картины для ретроспективы 1907 года поступили не от Бернхейм-Жёна, а главным образом из собраний двух крупных коллекционеров, Мориса Ганьи и Огюста Пеллерена, или же непосредственно от сына Сезанна. Если сделать скидку на элемент фантастического, рассказ Аполлинера можно считать правдоподобным вымыслом. Имелись для него какие-то основания в реальной жизни или нет, Аполлинер привлек внимание к спорам вокруг Сезанна в тот момент, когда Салон еще не закрылся. «Нам нет нужды рассуждать об искусстве Сезанна. Да будет, однако, известно, что месье Франц Журден, якобы не желая бросить тень на славу этого великого человека и вызвать недовольство клиентуры его покровителя Янсена, намеренно скупо представил его на Осеннем салоне» {8}.
Члены Общества осенних салонов были все не робкого десятка. И все же у них имелись свои ограничения. Статья 21 их устава гласила, что политические и религиозные дискуссии категорически запрещены. Самое значимое их нововведение состояло в организации регулярных ретроспектив – зачастую вскоре после смерти художников. Ретроспективы эти, хоть и небольшие – на один-два зала, – имели огромный резонанс. В 1905 году, например, помимо пресловутых фовистов, или «диких», с их оргией чистого цвета, состоялись ретроспективы Энгра (1780–1867), Мане (1832–1883) и Сёра (1859–1891), и каждая становилась событием. В 1906‑м был Гоген (1848–1903). В 1907‑м – Сезанн (1839–1906) и Берта Моризо (1841–1895). Причем куда бóльших похвал и более крупной экспозиции удостоилась как раз Моризо. В ее работах, светлых и воздушных, прекрасных по исполнению, присутствовала некая утонченность, пожалуй, даже изысканность. И многие отдавали ей предпочтение. В частности, критик Камиль Моклер, глядя на полотна Моризо, «не мог себе представить более разительного контраста с неуклюжими, вымученными картинами Сезанна, в которых неизменно обнаруживается пренебрежение тонкими нюансами. Это разница между принцессой и чернорабочим» {9}.
К радости месье Франца Журдена, народ на выставку валил валом. Публика была разношерстная. Одни шли как на сафари – поглазеть на экзотическое оперение и сразить легкую цель небрежным выстрелом в упор. Другие заходили утвердиться в своих предубеждениях. Аполлинер видел их всех насквозь.
Как свидетельствует Жюль Ренар, Сезанн и раньше экспонировался на Осеннем салоне. В 1904 году ему предоставили отдельное помещение – Зал Сезанна. Подобной чести в свое время удостоились Пюви де Шаванн (1824–1898), Тулуз-Лотрек (1864–1901) и Редон с Ренуаром (оба при жизни). Это была скромная ретроспектива из тридцати трех картин, большей частью отобранных торговым агентом Сезанна Амбруазом Волларом, чье звериное чутье и предусмотрительная запасливость сыграли решающую роль в том, что статус его подопечного поднялся до уровня мировой величины. Зал Сезанна был оформлен с претензией на роскошь: пальмы в кадках, печь, восточный ковер, бархатный диван. Картины висели просторно. Над ними, что было внове, размещались панели с фотографиями работ Сезанна, не представленных на выставке, – типично антрепренерский прием хитроумного Воллара, трюк, повторенный на ретроспективе 1907 года, где использовались фотографии Дрюэ, запечатлевшие четыре настенных панно из юношеского цикла «Времена года» в гостиной фамильного особняка Сезаннов в Экс-ан‑Провансе. Эти фотографии подчеркивали мемориальный характер экспозиции. О них много говорили, равно как и о подписи «Энгр», которой молодой автор из озорства подписал свои работы {11}.