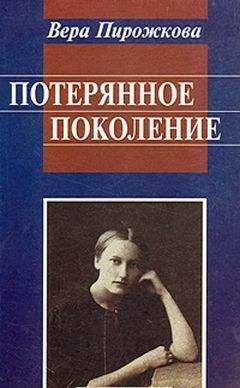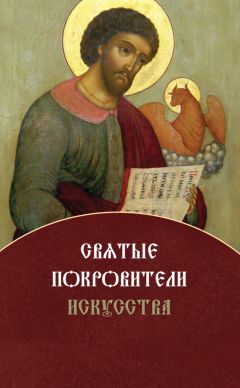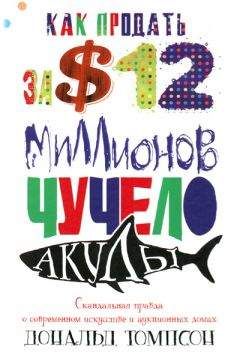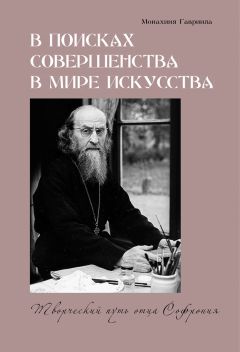Вера Пирожкова - Потерянное поколение: Воспоминания о детстве и юности
В семье моего отца, среди его братьев и сестер, господствовала типичная русская интеллигентская петербургская атмосфера. Получили ли они эти задатки уже в своей семье – мои бабушка и дедушка с отцовской стороны умерли, когда меня еще не было на свете, – или приобрели в студенческие годы в Петербурге, не могу сказать. Непрактичность в житейских делах, высокая мораль, почти ригористическая гуманность, интеллектуальная честность и гражданское мужество мало приспосабливали к жизни в советских условиях. И если они уцелели, то лишь благодаря своему сугубо неидеологическому, абстрактному предмету – математике; советским пропагандистам было невдомек, как можно включить в урок математики коммунистическую или атеистическую пропаганду. А специалисты царского времени еще были нужны. Нельзя было выбросить всех.
Интеллектуальная честность и гражданское мужество были присущи моему отцу в высшей степени. Одна сцена моего детства до сих пор стоит перед моими глазами. Мне было тогда 6 лет. Как случилось, что я осталась в комнате, уже не помню. Но хорошо помню высокого детину, пришедшего к моему отцу с угрозами. Это был один из выдвиженцев. Выдвиженцами в 20-е годы назывались бывшие партизаны, активные коммунисты и комсомольцы, которых власть за политические заслуги посылала в разные учебные заведения, чаще всего в техникумы. Так хотели создать новых, преданных власти специалистов. Некоторые из них были способны и могли учиться. Но многие владели лучше винтовкой, шашкой или примитивными пропагандистскими фразами, а «грызть гранит науки» приспособлены не были. Однако преподаватели, в большинстве своем из старой интеллигенции, их очень боялись и часто ставили удовлетворительные отметки, хотя никаких знаний у выдвиженцев не было. Друг другу преподаватели рассказывали самые курьезные вещи об экзаменационных ответах выдвиженцев. Один из коллег моего отца, преподаватель русского языка и литературы, принес однажды отцу сочинение такого выдвиженца на тему «Исторические личности в поэме Пушкина «Полтава»». Оно начиналось так: «В поэме Пушкина были две исторические личности, личность Петра и личность Мазепы, была еще третья историческая личность, личность короля Карла. Она жила в Швеции». Под конец автор сообщал, что «Петр велел привезти из Москвы в Полтаву Анафему и она там гремела вместо Мазепы», и закончил сочинение: «Так Петру поставили памятник, а Мазепу похоронили». Не знаю, какую отметку получил студент за это сочинение.
Мой отец упорно отказывался ставить удовлетворительную отметку по математике, если не было хотя бы минимума знаний, независимо от того, кто был его ученик, выдвиженец или нет.
И вот один из выдвиженцев, получавший у моего отца систематически неудовлетворительные отметки, вошел в нашу квартиру. Отец предложил ему сесть и спросил, зачем он пришел. Парень заявил: «Если вы не поставите мне тройку, я донесу, что вы были начальником бронепоезда белых во время гражданской войны». Выдумка этого парня была так же топорна, как и он сам. Мой отец был глубоко невоенным человеком и никогда не держал в руках какого-либо оружия. Когда он впервые явился на призывной пункт, он вытащил непризывной билет, а в Первую мировую войну его не призвали в армию, как педагога. В России так бурно развивалось школьное дело, так не хватало педагогов всех видов школ и гимназий, что даже во время войны педагогов не призывали. И хотя все симпатии моего отца были на стороне белых, сам он не воевал. Угроза, однако, была не шуточная, хотя еще и не наступили страшные 30-е годы. Тем более, что в 1924 году отец был временно арестован, о чем расскажу позже. Арестован он был как раз по ложному доносу.
Отец выслушал угрозу, встал, открыл дверь и сказал только одно слово: «Вон!» Я помню, как этот детина как-то съежился, точно стал меньше ростом, и, как побитая собака, «поджав хвост», выскочил из комнаты.
С отцом ничего не случилось. Мне потом не раз приходилось наблюдать, как в тоталитарных режимах отсутствие страха спасало человека. Представители этих режимов или их прислужники судят так: если не трусит, значит, имеет «прикрытие» где-то наверху. И они отступают, чтобы «не связываться». А то, кто его знает…
В детстве моей любимой сказкой была коротенькая сказка про «сумасшедшего зайца». Один заяц сознал заячье собрание, влез на пенек и держал речь о том, что не надо бояться волков, пора, мол, перестать праздновать труса. Эту речь услышал волк и решил: «Вот этого оратора я и съем». Увлекшись своей речью, заяц не заметил волка и удивился, что его слушатели вдруг разбежались. Он оглянулся, увидел волка перед собой и… прыгнул на волка! Что ему еще было делать? И волк… убежал. В свое оправдание волк потом себе говорил: «Мало ли зайцев в лесу, а этот какой-то сумасшедший». Вот так «сумасшедшие зайцы» иногда и проскакивали.
О стойкости моего отца еще будет идти речь. Меня его пример воспитывал лучше, чем это могли сделать длинные рассуждения.
МАТЬ
Моя мать была дочерью железнодорожника и провела часть своего детства в Польше, где ее отец был сначала помощником, а потом начальником разных станций. Насколько мало было в семье предубеждений, видно из того, что в числе друзей семьи были и поляки, и евреи, и украинцы, а если поблизости не было православной церкви, то семья ездила на богослужение в униатскую.
Когда старшие дети стали подрастать, дедушка попросил перевести его в город, где есть гимназии. Он получил назначение в Двинск. Моя мать была старшим ребенком в семье; для нее и на два года младшего ее брата их отец взял гувернантку, которая подготовила их к поступлению в одни из старших классов гимназии. Моя мать выдержала экзамены и поступила сразу в 5-й класс Двинской женской гимназии. Через год дедушку перевели в Псков, который был тогда большой узловой станцией. Мама закончила псковскую гимназию и уже в последнем, восьмом классе стала невестой. Вышла замуж за молодого петербургского чиновника по железнодорожному ведомству, приезжавшего с инспекцией в Псков и влюбившегося в мою мать.
С ним она уехала в Петербург. Когда началась русско-японская война, ее муж, офицер запаса, был призван и пал на войне. Моя мать осталась вдовой в 24 года, с пятью детьми. Пенсию она получала за мужа небольшую, так как он был еще очень молод, когда погиб, и моя мать с детьми уехала обратно в Псков, где жизнь была дешевле. Им помогли родители ее покойного мужа, дворяне, имевшие небольшое состояние.
Все же жить приходилось скромно – по тем понятиям! Мать имела не только прислугу, но и бонну для детей. Моя мать, дожившая до 81 года, всегда почему-то боялась рано умереть и оставить детей круглыми сиротами. Поэтому она воспользовалась привилегиями, полагавшимися детям офицера, павшего на войне. Обеих дочерей она поместила бесплатно в петербургский Николаевский институт. Этот институт не только давал образование, но, в случае полного сиротства, заботился о молодых девушках после его окончания. Для тех, кто имел жениха, делалось приданое, другим устраивалось место гувернантки или домашней учительницы. На старшей из моих сестер этот отрыв от семьи и интернатское воспитание отразились, но младшую отдали в интернат в возрасте 6-ти лет, тогда как по натуре она была склонна к меланхолии и чрезвычайно привязана к семье. На нее этот насильственный ранний отрыв от семьи наложил тяжелый отпечаток. Мой отец, особенно любивший своих младших пасынка и падчерицу, часто говорил, что он бы этого не допустил, если б уже был мужем моей матери. Но я ни в коем случае не делаю упрека матери. Она действовала так не по легкомыслию, а из заботы о детях, стараясь обеспечить их на случай собственной смерти.
Среднего из трех сыновей она отдала, пользуясь аналогичной привилегией, в кадетский корпус. Но он был в Пскове, так что мальчик мог каждое воскресенье проводить в семье. Только старший сын Алексей жил дома и учился в Псковском реальном училище, где преподавал математику мой отец. Младший сын Георгий умер от скарлатины, когда ему было 6 лет. Эта смерть чрезвычайно потрясла мою мать, и она так часто рассказывала обо всех ее обстоятельствах, что мне казалось, будто я сама пережила трагедию этой детской смерти. Когда моя мать забеременела пятым ребенком, она сначала испугалась. Она была еще такой молодой, и у нее уже было четверо маленьких детей. Понятно, что она устала и просто боялась новой беременности, и даже не хотела этого ребенка. Но потом она любила тихого и очень ласкового мальчика больше всех своих других детей. Его скоропостижная смерть на самое Рождество обрушилась на нее как непереносимо страшный удар. Она винила себя за то, что когда-то не хотела этого ребенка, и твердила, что сама больше не хочет жить. Произошло это за два года до ее знакомства с моим отцом.
Мой отец окончил Петербургский университет в 1903 году. Первое назначение он получил в гимназию в Кишиневе. Он приехал туда, походил по улицам – пыльно, жарко. Бессарабия ему не понравилась. Он сел в поезд, вернулся в Петербург, пошел в министерство просвещения и сказал, что Кишинев ему не нравится. И такие тогда были либеральные времена, что 24-летнего еще только предполагаемого преподавателя даже не упрекнули, а предложили место в женской гимназии в Новгороде.