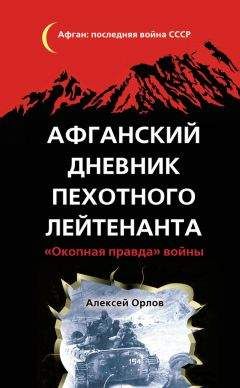Игорь Волгин - Последний год Достоевского
Год начинался с револьверной пальбы.
Род оружияВпрочем, к этому уже привыкли. С тех пор как в январе 1878-го Вера Ивановна Засулич из револьвера системы «бульдог» в упор поразила петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова, подобные события – ошеломляющие, из ряда вон выходящие – утратили свою чрезвычайность.
События эти были ответом на приговоры участникам политических процессов – к сотням лет каторги, на издевательства в местах заключения, на административный произвол и массовые высылки без суда и следствия. Они были ответом на полную безгласность низов и абсолютную безнаказанность верхов.
Впервые (если не считать одного дня – 14 декабря 1825 года) страна была поставлена перед небывалым в её истории фактом: организованной вооружённой борьбой против существующей власти. Факт этот постепенно перевешивал всё остальное: голод и крестьянское разорение, разномыслие западников и славянофилов, провалы во внешней политике и т. д. «Дай Бог, чтобы я ошибался, – писал Лев Толстой, – но мне кажется, что все вопросы восточные и все славяне и Константинополи пустяки в сравнении с этим»[3].
Толстой называет именно те проблемы, которые занимали Достоевского на протяжении минувших двух лет. Автор «Дневника писателя» полагал, что именно там, на Балканах, будет положено начало некоему мировому нравственному перевороту – тому, что он именовал «русским решением вопроса». Это решение должно было зиждиться не на холодном государственном расчёте, а на правде и справедливости – «пусть даже в ущерб собственной выгоде».
Русско-турецкая война закончилась; армия, уже различавшая на горизонте купол «святой Софии», по доброй воле отступила от Константинополя. После Берлинского конгресса «собственная выгода» России (как бы в насмешку над его словами) была действительно сведена на нет: дипломаты отдали то, за что было заплачено русской кровью. Что же касается нравственной – главной для него – стороны дела, то о ней и не вспоминали. Восточный вопрос не обновил Европы и не повёл к возрождению его собственной страны.
Прекратился и выпуск «Дневника писателя», к которому за два года (1876–1877) читающая Россия уже привыкла. Подписчики, приученные находить на страницах «Дневника» если не ответы на злобу дня, то, по меньшей мере, пристальное её обсуждение, теперь должны были оставаться в неведении относительно того, как смотрит их постоянный собеседник на совершающиеся события.
События между тем совершались.
Пока генерал-адъютант Трепов оправлялся от полученной раны, в Киеве был убит жандармский полковник барон Гейкинг, а в Ростове-на-Дону жизнью поплатился за свою деятельность агент сыскной полиции Никонов (у позднейших историков их «вина» вызывала некоторые сомнения). В Киеве же Валериан Осинский стрелял в местного прокурора Котляревского. Лишь спасительная толщина прокурорской шубы остановила полёт пуль и сохранила жизнь её владельцу: счастливец не был даже ранен, хотя и свалился на землю от страха.
Россия не знала ничего подобного.
Правда, 14 декабря 1825 года из каре восставших войск на Сенатской площади прогремело несколько выстрелов – и Каховский, один из тех штатских, коих правительственный бюллетень аттестует господами «гнусного вида во фраках», сразил генерала Милорадовича; правда, 4 апреля 1866 года пуля Каракозова просвистела мимо решётки Летнего сада, едва не задев Александра II. Но это были печальные исключения. Теперь же власть постоянно находилась под револьверным прицелом.
Впрочем, страшен был не только револьвер.
4 августа 1878 года, около девяти часов утра, шеф жандармов и начальник III Отделения генерал-адъютант Мезенцов возвращался домой после ранней молитвы в часовне у Гостиного двора. Вместе со своим спутником – отставным подполковником Макаровым – генерал вступил на Михайловскую площадь. В этот момент, как гласит текст официального донесения императору, он «был… встречен неизвестным молодым человеком среднего роста, одетым в серое пальто и в очках». Молодой человек стремительно бросился на шефа жандармов и поразил его кинжалом в живот (чем и был отчасти поколеблен слух, будто генерал носит кольчугу). Подполковник Макаров с криком «держи, держи» ударил нападавшего зонтиком. «…В ту же минуту другой молодой человек с чёрными усами в длинном синем пальто и чёрной пуховой круглой шляпе выстрелил в Макарова, но не попал, и затем оба убийцы вскочили на стоявшие в Итальянской, вероятно их собственные, дрожки, запряжённые вороною лошадью; на козлах сидел молодой кучер с чёрными усами без бороды. Сев на дрожки, злоумышленники понеслись по Малой Садовой и скрылись из виду»[4].
Вороной не подвёл. Это был, как выяснилось впоследствии, знаменитый Варвар – тот самый «революционный конь», который в 1876 году умчал из тюремного госпиталя Петра Кропоткина, в 1877 году – бежавшего из тюрьмы В. С. Ивановского, а за несколько месяцев до покушения на Мезенцова спас от тюремной погони А. К. Преснякова (Преснякова позднее поймают – и казнят в ноябре 1880 года; тогда же Достоевский обозначит его имя в своей записной книжке: к этой записи мы ещё обратимся). По прихоти судьбы именно Варвар, наконец-то пленённый правительством и призванный на полицейскую службу, 1 марта 1881 года доставит в Зимний дворец смертельно раненного русского самодержца.
Тяжёлый кинжал, предназначенный для медвежьей охоты, всадил в Мезенцова («ниже кольчуги») Сергей Кравчинский. Вскоре он эмигрирует и под псевдонимом Степняк выпустит за границей несколько книг о русской революции, которые принесут ему европейскую известность. В одной из них он упомянет Достоевского: «Единственные талантливые люди, которых она (реакция. – И.В.) закрепила за собой… – Достоевский в художественной литературе и Катков в журналистике – оба ренегаты революционного дела»[5].
Автор не вполне прав: не говоря уже о несоизмеримости талантов, Катков никогда не принадлежал к «революционному делу». Что же касается «ренегатства» Достоевского, то к этой расхожей формуле нам ещё придётся вернуться.
Чудом избежавши виселицы, Сергей Кравчинский намного переживёт автора «Бесов»: он погибнет случайно, в 1895 году, – под колёсами пригородного лондонского поезда.
Имя «молодого кучера с чёрными усами» – Адриан Михайлов. Его поймают не скоро: его процесс, которым, как всяким политическим делом, будет остро интересоваться Достоевский, состоится только через два года – накануне Пушкинского праздника – и окажется в некоторой связи с последним.
Наконец, следует сказать о третьем участнике драмы, разыгравшейся на Михайловской площади, – человеке «в чёрной пуховой шляпе», который огнём прикрыл своего товарища (на суде в 1882 году он будет утверждать, что стрелял в воздух, ибо усматривал в подполковнике Макарове не охранника, а лишь случайного спутника). Этот человек станет последним соседом Достоевского: зимой 1880–1881 годов в доме 5/2 по Кузнечному переулку, на одной лестнице с Достоевским, под чужой фамилией будет проживать член «великого ИК» – первого Исполнительного комитета «Народной воли», участник убийства Мезенцова, а затем почти всех покушений на Александра II – Александр Иванович Баранников.
Так затягивались узлы, распутать или разрубить которые уже не представлялось возможным. Так протягивались нити – с «мировых подмостков» к автору «Карамазовых».
Род смертиЧерез четыре дня после убийства Мезенцова состоялось высочайшее повеление, согласно которому все дела, связанные с применением оружия против представителей власти, передавались в ведение военных судов. После самосуда военный суд – самый скорый суд в мире: его приговоры, как правило, предрешены и обжалованию не подлежат.
Русской революции было обеспечено упрощённое судопроизводство.
12 мая 1879 года временным генерал-губернаторам было отправлено следующее секретное отношение: «Государь Император, получив сведение, что некоторые из политических преступников, судившихся в Киеве военным судом… приговорены к смертной казни расстрелянием, изволил заметить, что в подобном случае соответственнее назначать повешение… О вышеизложенном имею честь сообщить… для руководства при конфирмации приговора военных судов по делам сего рода»[6].
Эту бумагу подписал главный военный прокурор В. Д. Философов – муж той женщины, которую Достоевский глубоко чтил за её «умное сердце» и в чьём доме он так любил бывать.
Александр II благоволил к своему главному военному прокурору, но, в отличие от Достоевского, не жаловал его жену – Анну Павловну. Впрочем, неприязнь была взаимной. «Я ненавижу настоящее наше правительство… – признавалась Анна Павловна в письме мужу, состоявшему одним из высших юридических агентов этого правительства, – это шайка разбойников, которые губят Россию»[7].